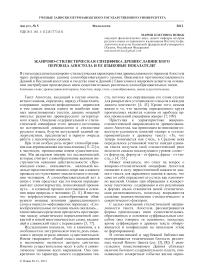Жанрово-стилистическая специфика древнеславянского перевода апостола и ее языковые показатели
Автор: Новак Мария Олеговна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается жанрово-стилистическая характеристика древнеславянского перевода Апостола через репрезентацию единиц словообразовательного уровня. Выясняется противопоставленность Деяний и Посланий апостолов и сходство книги Деяний с Евангелием в жанровом аспекте на основании дистрибуции производных имен существительных различных словообразовательных типов.
Древнеславянский перевод апостола, жанр, стиль, словообразование, имена существительные
Короткий адрес: https://sciup.org/14750185
IDR: 14750185 | УДК: 811.161.1-112:81''373.611
Текст научной статьи Жанрово-стилистическая специфика древнеславянского перевода апостола и ее языковые показатели
Текст Апостола, входящий в состав новозаветного канона, определил, наряду с Евангелием, содержание кирилло-мефодиевских переводов и тем самым явился одним из наиболее важных заимствованных текстов, давших мощный импульс развитию древнерусского литературного языка. Описание содержательной и стилистической специфики этого ценного источника по исторической лексикологии и стилистике русского языка, будучи актуальной задачей палеорусистики, предполагает в первую очередь работу с лексическим уровнем.
При этом особую роль играет словообразование как деривационная система лексики [11; 21] и, в частности, производные имена существительные. Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают словообразование важным инструментом освоения действительности: «Производное слово… оказывается… маленькой моделью представления знания о мире как сложном процессе его чувственно-мыслительного осознания человеком. А словообразовательный акт в связи с этим предстает как логически оправданный акт словотворчества, позволяющий проникнуть… в сложный процесс постижения и освоения мира природы и человека» [2; 11]. Известно, что морфологическое словообразование обнаружило мощные потенции древнеславянского слова в кирилло-мефодиевских переводах: «Словообразовательные потенции языка оказались… единственным средством преодолеть противоречие между семантически нерасчлененной син-кретой и новой многозначностью слова, входившей в славянский текст с переводами» [5; 77].
Исследования показали, что в книжном, а в особенности в литургическом тексте, роль смыслового центра играло именно существительное. Имена «выражают общий смысл высказывания и несомненно являются центром синтагмы. Именно существительное несет в себе и символическое значение всего выражения. Оно синкретично по характеру самого содержания тек- ста, поэтому все окружающие его слова служат для раскрытия и уточнения его смысла в каждом данном контексте» [4; 43]. Кроме того, весьма важно и то, что наличие определенного круга производных является «одним из наиболее ярких проявлений специфики жанра» [7; 109].
Приступая к характеристике жанровостилистической направленности древнеславянского Апостола, мы принимаем во внимание известную условность понятий «жанр» и «стиль» применительно к древнему тексту: «То, что теперь понимается как стиль, в Cредние века определялось установкой текста: каждая единица текста получала свой стилистический ранг исходя из смысла последующего уровня: слово – от формулы, формула – от фразы, фраза – от текста...» [4; 155].
Может показаться, что ответ на вопрос о жанрово-стилистической специфике Апостола очевиден в силу первостепенной важности данного текста для церковного канона в целом, что само по себе определяет его стиль как однозначно высокий. Однако при обращении к конкретному текстовому содержанию и его реализации в формах языка становится ясной стилистическая разноплановость, поскольку вскрываются сложные взаимоотношения стилистического и семантического факторов.
С целью выяснения стилистической направленности текста Апостола рассматриваются формы производных имен существительных, образованных в основном суффиксальным способом (мы говорим «в основном», поскольку кроме суффиксации в древнем тексте обнаруживается и конфиксация на начальном этапе ее формирования).
В отечественной и зарубежной библеистике подчеркивается тематическая близость различных частей Нового Завета (см.: [3], [8]). С евангельским повествованием Деяния сближает наличие бытового содержательного пласта, описывающего конкретные события жизни перво- христианских общин, подобно тому как в Евангелии описываются обстоятельства земной жизни Иисуса Христа и Его деяния. С другой стороны, и в Евангелиях, и в тексте Деяний представлен иной, богословско-проповеднический план. Если в Евангелиях это символические притчи и беседы Иисуса Христа с учениками и народом, то в Деяниях это речи-проповеди апостолов (прежде всего Петра и Павла), составляющие приблизительно одну треть всего повествования Деяний. Что касается содержания Посланий, все они являются продолжением евангельского благовестия и содержат как начала сложной богословской экзегезы событий Ветхого Завета и земной жизни Христа, так и эсхатологические предвидения; большое внимание в них уделяется обоснованию тех духовных заповедей, которые должны определять нравственную жизнь нового человека – христианина. Содержание Посланий в целом характеризуется большей отвлеченностью от бытового плана существования по сравнению с текстом Деяний.
Очевидно, что для выяснения стилистической специфики Апостола необходимо в первую очередь сопоставить данные, извлеченные из апостольского и евангельского текста, а затем данные Деяний и Посланий апостолов. Основным источником лексического материала для анализа является галицко-волынский список, Христино-польский Апостол XII века (Львовский исторический музей, № 39, далее Христ , приводится по [15], сверено по [6]). Это относительно полный список толкового Апостола, в языке которого присутствуют как черты древней редакции памятника, восходящей к переводам Кирилла и Мефодия, так и следы преславской редактуры [14; 747]. Последнее обстоятельство весьма ценно: словарь Христ отражает лексические варианты и возможности словопроизводства, представленные в основных древнейших версиях перевода, заложивших основы для дальнейшего развития церковнославянского текста Апостола.
Наиболее приемлемым для сопоставления с Христ представляется текст галицко-волынско-го Галицкого Четвероевангелия 1144 года (ГИМ, Син. № 404, далее ГЧЕ , приводится по [1]) как наиболее близкий Христ в хронологическом и языковом отношении: «Каллиграфическое письмо этого кодекса обнаруживает довольно близкое сходство (но не тождество) с почерком писца Христинопольского (Городисского) Апостола толкового сер[едины] (?) XII в. – рукописи также южнорус[ского] (вероятнее всего, галицко-волынского) происхождения» [13; 340–341].
Квантитативный анализ производных имен представляется затруднительным в силу разницы в объеме Христ (299 листов, в лист) и ГЧЕ (228 листов собственно евангельских чтений, в четвертку) [12; 94–95]. Поэтому ниже основное внимание будет уделено качественному анализу:
мы попытаемся зафиксировать основные тенденции в дистрибуции словообразовательных единиц, определяющие стилистическое «лицо» каждой из частей Апостола.
Принимая в качестве основного ориентира словообразовательное средство, мы пользуемся общепринятой функционально-генетической типологией суффиксальных морфем, согласно которой существуют, с одной стороны, суффиксы нейтральные, оформляющие дериваты в текстах различной содержательно-стилистической направленности, с другой стороны, суффиксы славяно-книжные, являющиеся частотным словообразовательным средством в замкнутом кругу памятников высокого славяно-книжного стиля (см. [10]).
Так, в Апостоле и Евангелии зафиксированы производные имена со славяно-книжными суффиксами -(е)ние , -(т)ие , -ьство , -ьствие , -ость , -ота , -тель и с нейтральными - ∅ , -(ьн)икъ , -(ьн) ица , -ьць , -(ан)инъ , -ина , -ище , -ло и т. д. Вместе с тем следует иметь в виду, что в древнеславянской книжности «нейтральность словообразовательного средства снималась маркированностью основы, так что в разных жанрах по преимуществу употребляются разные слова одного типа словопроизводства (ср.: грешник , мученик , праведник , послушник , столпник и т. п. – в книжных жанрах и посадник , помощник , сапожник , лодочник и т. п. – в жанрах, связанных с народноязыковой стихией)» [10; 132]. Поэтому в нашем качественном анализе решающим критерием будет семантика производящей основы, а также контекстуальные семантические реализации производных существительных. При этом мы учитываем еще одно немаловажное обстоятельство: в условиях семантического синкретизма словообразовательные значения древнеславянских производных слов зачастую «невозможно квалифицировать… как словообразовательные значения, т. е. обобщенные, отличающиеся от лексических» [9; 69].
Прежде всего необходимо выявить конкретные лексические совпадения и расхождения в Апостоле и Евангелии, с одной стороны, и внутри самого апостольского текста – с другой (причем очень важно представить обе стороны в их взаимодействии). Обратимся сначала к сопоставлению Апостола и Евангелия и рассмотрим наиболее показательные примеры.
Так, группа имен существительных с суффиксом -(ьн)икъ представляет имена с обобщенными значениями лица и предмета. Большинство общих для Апостола и Евангелия слов принадлежат первому типу: безаконьникъ, вёстьникъ, грёшьникъ, дължьникъ, законь-никъ, иноплеменьникъ, кънижьникъ, наслёд-никъ, наставьникъ, неправьдьникъ, обьщь-никъ, приставьникъ, причястьникъ, разбои-никъ, съвётьникъ, сътьникъ, тъ³сuщьникъ, uченикъ, хъ³щьникъ, четвьртовластьникъ. Что касается существительных на -(ьн)икъ с предметным значением, некоторые из отмеченных в Евангелии отсутствуют в Апостоле: почьрпаль-никъ, свёщьникъ, съребрьникъ – так же, как и многие дериваты со значением лица, зафиксированные в Апостоле, отсутствуют в Евангелии. Это образования с отвлеченным значением качественной характеристики лица: похотьникъ, свободьникъ, трёзвьникъ, хuльникъ, клеветь-никъ, клятвопрёстuпьникъ, лъжесловесьникъ, лъжьникъ, порочьникъ, послuшьникъ, чело-вёкоuгодьникъ и т. д. Следует пояснить, что здесь и далее мы подразумеваем под «отвлеченным значением качественной характеристики лица». Отвлеченность семантики этих и подобных образований в словообразовательном аспекте определяется семантикой производящей основы, так или иначе (в ряде случаев опосредованно) связанной с действием (похотьникъ ← похотьнъ ← похоть ← похотёти; хuльникъ ← хuльнъ ← хuлити и т. п.) либо с качеством (лъжьникъ ← лъжьнъ; порочьникъ ← порочьнъ; трёзвь-никъ ← трёзвьнъ и т. п.) (см. [9; 69]). В евангельском тексте также встречаются имена со значением лица, но их семантика, как правило, более конкретна: бёлильникъ, вратьникъ, го-стиньникъ, двьрьникъ, пёняжьникъ представляют собой наименования лица по роду занятий, производящая основа которых называет предмет (врата, двьрь, пёнязь). Характеризующая «качественность» коренится в лексическом значении производящей основы, предполагающем оценочный момент, положительный либо отрицательный: клеветьникъ (ср. клевета), лъжесло-весьникъ (ср. лъжаa словеса), послuшьникъ (ср. послuшьнъ). Если значение ‘лицо по действию’ присутствует в силу наличия связей с производящей базой, представляя собой «внутренний» аспект семантики, то значение качественной характеристики лица является «внешним» ее аспектом, будучи обусловлено стилистической и содержательной направленностью текста в целом.
Таким образом, мы можем констатировать лишь частичное пересечение лексемного состава групп существительных с суффиксом -(ьн)икъ ; расхождения же показывают явное преобладание в тексте Апостола дериватов, представляющих отвлеченные характеристики лица.
Ту же тенденцию можно проследить и в группе образований на -ьць. В данной группе имен также присутствуют существительные как со значением лица, так и с предметным значением, при этом также можно зафиксировать лексические несовпадения в Евангелии и Апостоле. Так, в ГЧЕ представлены образования близньць, ловьць, кuпьць, сопьць, типичные для бытового нарратива и отсутствующие в Апостоле. Напротив, в Христ встречаются нехарактерные для Евангелия производные со значением качественной характеристики лица, лексическое значение их производящей основы зачастую несет значительный коннотативный заряд. При этом обращает на себя внимание большое число composita, также отсутствующих в Евангелии: богоборьць, братолюбьць, законодавьць, идо-ложрьць, лихоимьць, мuжеложьць, страньно-любьць, сьрдьцевёдьць, сёменословьць.
Весьма показательно небольшое число совпадений существительных со славяно-книжным суффиксом -тель . Их всего шесть: дёлатель , законоuчитель , мuчитель , родитель , съвё - ётель , uчитель . В Евангелии отсутствуют отвлеченные характеристики лица, называющие деятеля «нефизического» плана и встречающиеся в Апостоле (в том числе composita): вседьржитель , всегuбитель , гонитель , доса - дитель , идолослuжитель , неклятвохранитель , кuмирослuжитель , любитель , миродьржи - тель , отьчедосадитель , подобитель , рьвьнитель , рuгатель , съвётохранитель и т. д. С другой стороны, в Апостоле не представлены дериваты с лексической семантикой, имеющей отношение к физическому действию, отмеченные в Евангелии: жятель (← жяти ), сёятель (← сёaти ), тяжатель (← тяжати ).
Столь же красноречиво почти полное отсутствие в Евангелии существительных со значением абстрактного признака, оформленных с помощью форманта -ота : зафиксированы лишь имена нечистота , тягота , тогда как в Христ около 20 образований с данным суффиксом: высо та , дългота , красота , лёпота , нищета , просто та , срамота , сuЕта , тъщета , щедрота и т. д.
Что касается имен существительных с нейтральным суффиксом -(ьн)ица , в Апостоле отсутствуют такие дериваты с предметным значением, как мёдьница , ножьница , понявица , ръ³бица , срачица , скриница , възглавьница , крuпица , мъ³тьница , смокъвьница , стькляни - ца , uдица , uмъ³вальница , отмеченные в Евангелии. В свою очередь, в евангельском тексте не представлены имена со значением лица (как женского, так и мужского рода), зафиксированные в Апостоле, в лексической семантике которых содержится оценочный компонент: мuжеuбиица , съвадьница , трёзвеница , чадолюбица .
Определяющим для нашего анализа должен стать ответ на вопрос: как распределяется лексика, общая для Апостола и Евангелия, в рамках собственно апостольского текста? Как уже было отмечено, в содержании Деяний и Посланий апостолов существуют определенные различия: если основную направленность Посланий можно охарактеризовать как богословско-философскую, то нарратив Деяний, как было отмечено выше, гораздо более конкретен. Наша задача – проследить, как аспект содержания отражается в репрезентации единиц словообразовательного уровня. Для этого мы продолжим использование метода выявления лексических совпадений и расхождений.
Рассмотрим ряд примеров. Так, только в тексте Деяний встречаются nomina professionalia – произ водные образования со значением ‘характеристика лица по роду занятий’: корабльникъ , къзньць , паличьникъ , постёльникъ , стрёльць , съребро - бииць , сътьникъ , тържьникъ , тъ³сuщьникъ , четвьртовластьникъ , а также имена с предметным значением: трикровьникъ (‘трехэтажное строение’), вётрьць , плесньць , uбрuсьць . В Посланиях же мы наблюдаем отвлеченные качественные характеристики лица: безаконьникъ , братолюбьць , грёшьникъ , лихоимьць , лъжесло - весьникъ , льстьць , мuжеложьць , неправьдь - никъ , порочьникъ , похотьникъ , страньно - любьць , человёкоuгодьникъ , Единомъ³сльникъ и т. п. Лишь в Деяниях обнаружены образования нулевой суффиксации конкретной лексической семантики: ковъ , мълва , погрёхъ , постъ , съборъ , трuсъ , тогда как текст Посланий представляет дериваты, называющие невещественные понятия: блuдъ , мъ³сль , подоба , похоть , разuмъ , срамъ , съблазнъ , тuга , хuла .
Если мы обратимся к существительным со славяно-книжными морфемами, то увидим ту же семантическую дихотомию «конкретное – отвлеченное», проявляющуюся в первую очередь в лексической семантике производящей базы производных имен и противопоставляющую друг другу тексты Деяний и Посланий, например: не-ёдени Е ← (не) aсти , озимёниЕ ← озимёти , пла - вани Е ← плавати (только в Деяниях), благоволЕниЕ ← благоволити , бла - жеиЕ ← блажити , възлюблениЕ ← възлюбити (только в Посланиях). Налицо противопоставление процессов, связанных с бытовой и духовной деятельностью человека.
Все сказанное выше позволяет приблизиться к общему выводу. Качественный анализ морфологических дериватов в тексте Апостола (в сопоставлении с Евангелием) в целом подтверждает существенное стилистическое различие Деяний и Посланий апостолов, которое предполагалось в связи с различием содержательных планов рассматриваемых частей апостольского текста. Разумеется, такой вывод возможен лишь как констатация основной тенденции и как любое обобщение не лишен условности и схематизма. Выше мы констатировали сложное взаимодействие и взаимопроникновение содержательных пластов Деяний и Посланий, поддерживаемое топикой Евангелия. Приведем ряд иллюстраций.
Во-первых, следует убедиться на конкретных примерах в том, что Деяния и Послания действительно противопоставлены друг другу на уровне контекста. Самый общий взгляд на организацию текста Деяний и Посланий апостолов позволяет увидеть закономерность, обусловленную разли- чиями в содержании: в Посланиях смысловым центром синтагмы и в конечном счете текста в целом является производное существительное, тогда как Деяния ориентированы на глагольные формы как на центр высказывания. Эта особенность, как и дистрибуция единиц словообразовательного уровня, сближает текст Деяний с евангельским повествованием и в целом противопоставляет его тексту Посланий. Сравним повествовательные фрагменты из Деяний и Евангелия с философскими контекстами Посланий, например:
Деян. 20:9–12: сёдя же нёкъ³и uноша . именьмь еyтyхъ . u окънца и въздрёмавъ ся сънъмь тяжькъмъ. г~лющю павьлu въ мнозё. прёклонь ся сънъмь. съпаде Ь три - кровьника низъ. и възяша и мьртвъ .
сълёзъ же павьлъ. нападе на нь и рече . не мълвите . д~ша бо Его въ немь Есть .
възлёзъ же и прёломль хлёбъ и въкuшь . много же побесёдовавъ до зорь . тако изиде .
приведоша же отрока жива и uтёшиша ся не малъ.³ .
Подобную же пронизанность глагольными и причастными формами наблюдаем в Евангелии:
Мф. 8:4: и рече емu i~съ . вижь никомu же не повёжь . нъ шьдъ покажи ся архiиереови . i прiнеси даръ иже повелё моиси .
Мф. 22:22: и слышавше дiвiшя ся . и оставльше i отидошя .
Ио. 17:8: яко г~лъ³ яже далъ Еси мънё дахъ имъ . и тi прiяшя . и разоумёшя въ истiнu яко Ь тебе изiдохъ и вёровашя яко тъ³ мя посъла .
Чтения из Посланий, напротив, предусматривают опору внутри синтагмы на производные существительные. Например:
Флп. 2:1: аще ко Е uмолЕни Е о хzё. аще коЕ uтёшени Е любве. аще ко Е обьщени Е д~ха. аще ко Е м~лсрди Е и щедрьствиa .
Кол. 3:12: облёцёте ся uбо. <…> въ uтробu щедротъ и б~лгость и съмёреномuдрьствь Е и кротость и тьрпёниЕ .
Во-вторых, Деяния апостолов и Евангелие объединяет еще одна особенность: роль производного имени заметно возрастает в строго определенных контекстах. Мы имеем в виду речи – проповеди, обращения к народу либо к власть предержащим – Иисуса Христа, апостолов и других персонажей новозаветных книг. Например:
Деян. 13:23, 24, 26: се Ь сёмене Его ~бъ по обётовании въздвiже из~лви с~псениЕ .
проповёдавъшю иwанu прёдъ лицьмь въхода его хрщени Е покаaньa из~леви .
мuжи и братиa. <...> вамъ слово спасеньa сего послано бz ъ.³
Мф. 15:19: Ь ср~дця бо исходять помъ³шлЕньa зла. uбьиства . прёлюбодёaньa . любодёaнья . татьбы . лъжесъвёдёнья . врёдног~ланьЕ .
Мф. 24:12: и за uмноженьЕ безаконьa исякнеть любъ³ мъногъ³хъ .
Нетрудно заметить, что данные фрагменты текста в плане частотности производных имен существенно отличаются от приведенных выше чисто повествовательных контекстов. Здесь наблюдается прямая зависимость употребления дериватов от прагматической установки высказывания: проповедническое, риторическое начало требует абстрактного смыслового центра, роль которого и выполняют существительные. Это сближает рассматриваемые контексты с отвлеченнофилософскими построениями Посланий.
Таким образом, распределение производных существительных в тексте Апостола непосредственно отражает стилистическую ориентацию различных частей новозаветного канона. При этом на основании лексических «пересечений» тех или иных словообразовательных типов можно констатировать общее сходство Евангелия и книги Деяний в их противопоставленности Посланиям апостолов. С другой стороны, как в Евангелии, так и в Деяниях встречаются текстовые «участки» риторического характера, близкие по стилю к Посланиям. На уровне контекста также была отмечена прямая зависимость частотности употребления производных имен существительных от степени содержательной отвлеченности фрагмента текста, обусловленной риторическим началом.
Работа выполнена в рамках научного проекта «Лингвотекстологические и корпусные исследования грамматической семантики древнерусского текста», 2.1.3/2987 (аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы» Федерального агентства по образованию).
Список литературы Жанрово-стилистическая специфика древнеславянского перевода апостола и ее языковые показатели
- Амфилохий [Сергиевский-Казанцев], архим. Четвероевангелие Галичское 1144 г., сличенное с древнеславянскими рукописными Евангелиями XI-XVII вв. и печатными: Острожским 1576 г. и Киевским 1788 г. с греческим евангельским текстом 635 г.: В 3 т. М., 1882-1883.
- Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.: Индрик, 2002. 336 с.
- Гатри Д. Введение в Новый Завет: Пер. с англ. М.: Библия для всех, 2005. 800 с.
- Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 294 с.
- Колесов В. В. Словообразование как динамический принцип реорганизации текста//Словообразование. Стилистика. Текст. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. С. 69-83.
- Кристинопольський Апостол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lhm.lviv.ua/projects.shtml
- Марков В. М. Явления суффиксальной синонимики в языке судебников XV-XVI вв.//Марков В. М. Избранные работы по русскому языку. Казань: Изд-во «ДАС», 2001. С. 109-117.
- Мень А., протоиерей. Библиологический словарь: В 3 т. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.
- Николаев Г. А. Синкретизм и словообразование в истории славянских языков//Николаев Г. А. Русское и славянское словообразование: Opera selecta. Казань: Казан. ун-т, 2011. С. 65-74.
- Николаев Г. А. Словообразование и стилистика//Николаев Г. А. Русское и славянское словообразование: Opera selecta. Казань: Казан. ун-т, 2011. С. 123-135.
- Николаев Г. А. Словообразование как раздел лексикологии//Николаев Г. А. Русское и славянское словообразование: Opera selecta. Казань: Казан. ун-т, 2011. С. 19-25.
- Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI-XIII вв. М.: Наука, 1984. 405 с.
- Турилов А. А. Галицкое Евангелие//Православная Энциклопедия. Т. 10. С. 340-341 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/161545.html.
- Христова-Шомова И. Служебният Апостол в славянската рькописна традиция. Т. I. Изследване на библейския текст. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2004. 831 с.
- Kałużniacki Aem. Actus epistolaeque apostolorum palaeslovenice. Ad fidem codicis Christinopolitani saeculo XII scripti/Ed. Aem. Kałużniacki. Vindobonae: Apud Caroli Geroldi filium, 1896. 376 p.