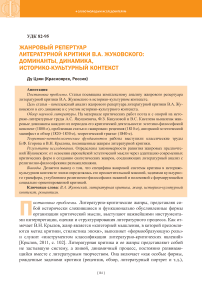Жанровый репертуар литературной критики В.А. Жуковского: доминанты, динамика, историко-культурный контекст
Автор: Ду Цзяи
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Слово молодым исследователям
Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Статья посвящена комплексному анализу жанрового репертуара литературной критики В.А. Жуковского в историко-культурном контексте. Цель статьи – комплексный анализ жанрового репертуара литературной критики В.А. Жуковского в его динамике и с учетом историко-культурного контекста. Обзор научной литературы. На материале критических работ поэта и с опорой на историко-литературные труды А.С. Янушкевича, Ф.З. Кануновой и В.С. Киселева выявлены жанровые доминанты каждого из периодов его критической деятельности: эстетико-философский конспект (1800-е), проблемная статья и «жанровая» рецензия (1810-е), авторский эстетический манифест и обзор (1820–1830-е), теоретический трактат (1840-е). Теоретико-методологическим фундаментом работы выступили классические труды Б.Ф. Егорова и В.Н. Крылова, посвященные жанрам литературной критики. Результаты исследования. Определены закономерности развития жанровых предпочтений Жуковского: от освоения европейской эстетической мысли через адаптацию современных критических форм к созданию синтетических жанров, соединяющих литературный анализ с религиозно-философскими размышлениями. Выводы. Делается вывод о том, что специфика жанровой системы критика в историкокультурном контексте эпохи определялась его просветительской миссией, задачами культурного трансфера, углублением религиозно-философских исканий и полемикой с формирующейся социально ориентированной критикой.
В.А. Жуковский, литературная критика, жанр, историко-культурный контекст, романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144163520
IDR: 144163520 | УДК: 82-95
Текст научной статьи Жанровый репертуар литературной критики В.А. Жуковского: доминанты, динамика, историко-культурный контекст
Постановка проблемы. Литературно-критические жанры, представляя собой исторически сложившиеся и функционально обусловленные формы организации критической мысли, выступают важнейшими инструментами интерпретации, оценки и структурирования литературного процесса. Как отмечает В.Н. Крылов, жанр является «категорией мышления, в которой преломляются метод критики, стилистика эпохи», выполняет «формообразующую роль» и служит «инструментом классификации литературно-критических явлений» [Крылов, 2011, с. 102]. Литературная критика и ее жанры представляют собой не застывшую систему, а живой, динамичный процесс, постоянно развивающийся вместе с литературным творчеством. Она включает «как особые формы, рожденные задачами критики (рецензия, обзор, литературный портрет и т.д.), так и усвоенные критикой и подчиненные ее собственным задачам литературные и публицистические жанры (письмо, памфлет, диалог, пародия, эпиграмма и др.)» [Крылов, 2011, с. 120].
Цель статьи – комплексный анализ жанрового репертуара литературной критики В.А. Жуковского в его динамике и с учетом историко-культурного контекста.
Обзор научной литературы . Вопрос о необходимости жанрового подхода к литературно-критическим сочинениям был поставлен в работе Б.Ф. Егорова «О мастерстве литературной критики: Жанры. Композиция. Стиль» (1980). Как показал исследователь, жанры литературной критики формировались и выделялись из общего потока отечественной словесности постепенно: «очень медленно она (критика. – Ц.Д. ) обособлялась от других видов литературной деятельности, медленно возникала и жанровая автономия» [Егоров, 1980, с. 43]. Критика XVIII в. существовала еще в качестве «своеобразной вставки, “инкрустации” внутри публицистической статьи, историко-литературного трактата, художественного очерка, рассказа» [Егоров, 1980, с. 43]. В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов и А.П. Сумароков нередко высказывали свои критические суждения в форме эпиграммы, И.А. Крылов – в виде переписки “гномов” и “сильфов” с волшебником Маликульмульком или «восточной» повести. По наблюдению Б.Ф. Егорова, «качественный переход к созданию критики как самостоятельного литературного вида совершил Карамзин», который «прочно и навсегда ввел критическую рубрику в журнал» [Там же, с. 43, 45]. Роль Карамзина в истории отечественной критики была определена В.Г. Белинским в статье, посвященной «Опыту истории русской литературы» А.В. Никитенко: «Первым критиком и, следовательно, основателем критики в русской литературе был Карамзин» [Белинский, 1981, с. 343]. Его «официальным наследником» на литературно-критическом поприще стал В.А. Жуковский. Именно ему Карамзин в 1808 г. передал свой журнал «Вестник Европы», отойдя от художественной словесности в сферу историографии. На первых порах Жуковский был не просто редактором, но и практически единственным автором журнала. При этом, по наблюдению В.С. Киселева, «книжки («Вестника Европы». – Ц.Д. ) приобрели большую жанрово-тематическую однородность», а каждый номер издания – устойчивый «жанровый состав» [Киселев, 2006, с. 331]. Следующий этап развития литературной критики – получение ею институционального статуса пришелся, по мысли Е.А. Добренко, на конец пушкинской эпохи [История…, 2011, с. 9]. Таким образом, именно с периодом литературно-критической деятельности Жуковского связана разработка оснований и жанровой системы отечественной критики XIX в.
Теоретико-методологические подходы к исследованию критики в жанровом аспекте сформулированы в классических работах Б.Ф. Егорова и В.Н. Крылова. Б.Ф. Егоров представил первый в отечественной филологии опыт жанровой классификации литературной критики по нескольким основаниям, а также поставил вопрос о ее национальном своеобразии. Так, в русской критике «преобладают обзоры и проблемные статьи», в то время как в западной – «литературные портреты».
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

В.Н. Крылов значительно расширил первоначальный перечень литературно-критических жанров, подробно проанализировав их функции, структуру, внутренние вариации и характерные авторские техники. Современное литературно-критическое жанроведение, представленное как историко-описательными исследованиями, так и теоретическими, позволяет обратиться к жанровому своеобразию творчества отдельных литературных критиков.
Результаты исследования . В этом отношении особый интерес представляет литературно-критическое наследие В.А. Жуковского. Именно его критические работы, пронизанные философской глубиной и искренней верой в просветительскую миссию литературы, во многом сформировали и конкретизировали эстетические принципы русской культуры 1800–1840-х гг., стали важным связующим звеном между эпохой Просвещения и феноменом отечественной критики середины XIX столетия. Литературно-критическое наследие Жуковского являет собой обширный, но все еще недостаточно изученный материал, особенно в его жанровом аспекте. Хотя исследователи внесли значительный вклад в осмысление литературной критики поэта, многие ее грани требуют особого внимания.
Обращаясь к литературной критике Жуковского, в первую очередь необходимо указать на фундаментальную работу А.С. Янушкевича и Ф.З. Кануновой, посвященную романтической эстетике и критике Жуковского в целом. Исследователями впервые была сформулирована проблема жанрового новаторства его сочинений: «Жуковский внес в русскую критику новые формы. Тип статьи, сочетающей теорию искусства и конкретный анализ, исповедальные статьи-манифесты, проблемные театральные рецензии и театральные стенограммы, историколитературные работы – все это обогащало молодую русскую критику...» [Кану-нова, Янушкевич, 2012, с. 442]. Это новаторство проявлялось не только в форме, но и в смысловом наполнении и повествовательной организации статей. Критика для Жуковского была не сухой оценкой, а формой диалога с читателем и художником, актом «истолкования» произведения, направленным на пробуждение в них нравственного и эстетического чувства.
Вопрос о необходимости системного изучения места Жуковского в отечественной литературной критике впервые был поставлен В.С. Киселевым. Ученый отметил, что существует множество лакун в изучении прижизненной критической рецепции Жуковского: «В том же качестве личность и творчество В.А. Жуковского фигурируют во множестве трудов... В.А. Жуковский выступает лишь одним из персонажей критической рефлексии, но в цельную картину рецепция его личности и творчества в прижизненной литературной критике не складывается» [Киселев, 2024, с. 210]. Это замечание указывает на ключевую проблему изысканий о Жуковском-критике и объекте критики на современном этапе: его наследие часто рассматривается фрагментарно, в рамках изучения творчества других авторов или общих процессов эпохи, но редко как самостоятельный и целостный объект исследования. Поэтому необходима смена самой исследовательской оптики: от взгляда на Жуковского как на «персонажа»
критики к комплексному анализу его как центральной фигуры, вокруг которой выстраивалась литературная полемика его времени.
Деятельность Жуковского как критика включает четыре этапа, каждый из которых отличается своеобразным жанровым репертуаром и эстетическими установками. Периодизация литературной критики поэта была намечена и обоснована в специальной работе А.С. Янушкевича и Ф.З. Кануновой: «Эстетическое самообразование 1800–1806 годов, редакторство и сотрудничество в “Вестнике Европы” (1808–1814), арзамасские протоколы и романтические манифесты (1815–1824), конспекты, обзоры и статьи 1830–1840-х годов» [Канунова, Янушкевич, 2012, с. 415]. Данная периодизация, кратко суммирующая основные вехи его критического пути, в целом коррелирует с делением на периоды, предложенным в 12-м томе его Полного собрания сочинений и писем. Обратимся к своеобразию жанрового репертуара Жуковского-критика на каждом из этапов его творчества.
Первый этап (1803–1811). Жуковский начал свой путь в критике с глубокого изучения трудов предшественников и современников. Этот период можно назвать этапом интеллектуального становления, когда он систематизировал идеи европейской и отечественной эстетики, что впоследствии легло в основу его собственных критических работ. Жуковский изучал тексты немецких романтиков (Шиллера, Гете, Новалиса), философов (Канта, Шеллинга), а также французских просветителей (Руссо, Лафонтена). Из эстетики Шиллера он заимствовал идею о возвышенной миссии искусства, а из манифестов немецкого романтизма – интерес к внутреннему миру человека, мистическому и иррациональному началам. Конспектируя труды предшественников, Жуковский адаптировал идеи иностранных писателей и философов для русской литературы. Что касается влияния отечественных мыслителей на становление Жуковского как критика, то важную роль сыграли труды Н.М. Карамзина, утверждавшего ценность чувства и индивидуального переживания в литературе.
Особо поэт выделял немецкого писателя и автора учебников по эстетике И.И. Эшенбурга. Его учебники по литературе Жуковский перевел, законспектировал и сопроводил авторскими примечаниями [Жуковский, 2012, с. 14–25]. В работах Эшенбурга, на наш взгляд, критика привлекли две особенности. Во-первых, это большой объем информации, представленный в предельно сжатом виде – ключевые понятия и главные вехи осмысления искусства. Во-вторых, близкая самому поэту мысль о высоком статусе воображения в искусстве. Жуковский проанализировал категории «прекрасного» и «возвышенного», связав их с божественным началом и духовным поиском. Важно заметить, что поэт не копировал идеи предшественников, а отбирал, систематизировал и переосмысливал их. Особенно в работах предшественников критика интересовал вопрос о красоте в искусстве как отражении высшей истины и гармонии: «Красота художественного произведения состоит в истине выражения, то есть в ясности идеи и в ее гармоническом согласии с материальным художественным ее образом... Художество в обширном, высшем значении имеет предметом красоту высшую» [Жуковский, 2012, с. 441].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Таким образом, жанровая доминанта первого периода – эстетико-философский конспект. По сути, Жуковский вводит новый жанр в русскую литературную критику, что связано с потребностью самой эпохи – максимально быстрое освоение европейской эстетической мысли, на фундаменте которой будет создаваться отечественная эстетика. По замечанию В.Н. Крылова, «философская критика рождается в первой трети XIX в., в пору “философского пробуждения” общества (Г. Флоровский). Она рассматривает каждое литературное явление в свете общефилософских и эстетических проблем» [Крылов, 2011, с. 97]. Эстетико-философский конспект – это синтетический жанр, он выполняет адаптационно-просветительскую функцию, систематизируя и переосмысляя европейскую эстетическую мысль для русской литературы. Он не является простым изложением исходного материала, а представляет собой творческий отбор, систематизацию и адаптацию ключевых концепций (Канта, Шиллера, Эшенбурга) для русскоязычного читателя и применительно к задачам национальной литературы. Его цель – не оперативный отклик на новинку, а создание теоретического фундамента для будущей критики и литературы. Он выступает как «жанр-посредник», обеспечивающий культурный трансфер и становление более сложных жанровых форм (теоретической статьи, монографии). Конспект Жуковского – это сознательно созданный жанр с четкой прагматикой, отражающий динамику литературного процесса: необходимость усвоения традиции для последующего самостоятельного развития.
Второй этап (1808–1811). На рубеже 1800–1810-х гг. Жуковский рассматривал литературу как инструмент духовного и нравственного воспитания. К 1810-м гг. он переходит к авторской критике (например, в публикациях журнала «Вестник Европы», 1808–1810). Его литературное эссе «Писатель в обществе» (1808) – это проблемная статья, посвященная конкретному вопросу: как «писатель может с успехом играть свою роль на сцене большого света» [Жуковский, 2012, с. 189]. В работе осмысляются ожидания общества в отношении писателей, конфликты между писателями и различными социальными институциями. Жуковский указывает на два рода светского успеха – «мгновенные торжества, приобретаемые блестящими, но мелкими средствами… другого рода успех, более твердый и с большею трудностью приобретаемый, основан на уважении, которое имеют в обществе к уму и качествам моральным. Чтоб заслужить его, необходимо нужно усовершенствовать свой характер, иметь правила твердые, рассудок образованный, быть деятельным для блага общего» [Жуковский, 2012, с. 190]. Жуковский предлагает альтернативный путь для писателя, который не может или не хочет интегрироваться в «большой свет»: «Писатель с дарованием истинным щедро вознагражден природою за все обиды пристрастной фортуны... богатого чувством и любовью ко всему прекрасному человека, он будет в тишине души довольствоваться скромным своим уделом» [Там же, с. 195–196]. «Нравственность» трактуется Жуковским как инструмент воспитания общества, а писатель – как «проводник добродетели», «любви ко всему прекрасному» [Там же, с. 196].
Для второго периода критики Жуковского характерно максимальное жанровое разнообразие. В 1810-е гг. в его жанровый репертуар входят письмо, диалог, рецензия, теоретическая статья, опыты метакритики и т.д. В фокусе внимания поэта находятся жанровая поэтика и связь между творчеством писателя и его излюбленным жанром: «О басне и баснях Крылова», «О сатире и сатирах Кантемира». Как мы знаем, позднее этот подход будет использовать В.Г. Белинский в своей программной статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». Сам Жуковский, получивший впоследствии прозвище «русский балладник», именно в 1810-е гг. интенсивно разрабатывает отечественные образцы жанра баллады, поэтому, по всей вероятности, в критике его также интересуют в первую очередь жанровые вопросы.
Ключевое место в литературной критике Жуковского второго периода занимает важный для эстетики романтизма вопрос о национальной специфике литературы. Именно он впервые теоретически обосновал значение «народности» в литературе. Так, в статье «О басне и баснях Крылова» (1809) Жуковский подчеркнул, что Крылов использует простой, естественный язык, близкий к народной речи. Его басни не требуют искусственных украшений – они живые и понятные, что отражает «русский ум» через доступность и ясность. Эта черта противопоставлена стилю Лафонтена, где акцент делается на поэтической изысканности [Жуковский, 2012, с. 209]. Жуковский утверждает, что Крылов, если даже заимствует сюжеты у Лафонтена, то создает оригинальные произведения благодаря адаптации к русскому контексту. Его стиль сочетает эпичность, лирику и юмор, что отражает многообразие национального характера. Жуковский видит в этом доказательство того, что русская литература может сохранять самобытность, даже ориентируясь на иностранные образцы [Там же, с. 208]. По сути, Жуковский, говоря о Крылове, описал собственную роль в русской литературе – освоение и адаптация европейской культуры и литературы, рождение национальных художественных образцов через переосмысление западных произведений и сюжетов.
Третий этап (1820–1830-е). К 1820–1830-м гг. под влиянием исторических событий, личных переживаний и углубления в религиозную философию мировоззрение Жуковского претерпело существенные изменения. Писатель все больше осмысляет историю и политику в религиозно-провиденциалистском ключе. Он видит в событиях (включая восстание декабристов, войны, европейские революции) не слепую игру рока, но проявление высшего замысла. «В противоположность судьбе Провидение ведет человека к бессмертию» [Долгушин1, 2019, с. 82]. По наблюдению Д.В. Долгушина, Провидение становится для него не абстрактной силой, а личностным началом, ведущим человечество и Россию к духовной цели, «заботливы<м> Воспитател<ем> и Испытател<ем>» («К Плещееву», 1812), который вед ет душу по определенному пути [Цит. по: Долгушин, 2019, с. 82].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
В письмах-дневниках дерптского периода (1814) Жуковский и М.А. Протасова постоянно призывали друг друга «предоставить все будущее без всякой заботы попечению Промысла», «оставить все на волю Тому, Кто все может» [Жуковский, 2004, с. 78, 70]. Этот принцип активного доверия к личностной воле Бога, а не пассивного подчинения безличной судьбе, становится краеугольным камнем его мировоззрения. Смерть М.А. Протасовой в 1823 г. стала поворотным моментом в мировоззрении Жуковского. Если ранее ее образ связывался с идеалом земного счастья и «милого вместе», то теперь он превратился в символ утраты и вечности. Свой новый взгляд нам мир поэт формулирует следующим образом: «счастие не цель жизни. <...> Мы знаем здесь одно потерянное счастие. Счастие наш предмет; здесь мы имеем только тень предмета» [Цит. по: Долгушин, 2019, 103]. Утрата возлюбленной приводит к углублению темы загробного воссоединения и переосмыслению страдания как пути к вечности. К 1830-м гг. Жуковский окончательно переходит от мечты о земном рае («милое вместе») к концепции жизни как приготовления к вечности. Его религиозность приобретает личностный, доверительный характер, а творчество наполняется мотивами провиденциализма, смирения и надежды на загробное воссоединение.
В критике этих лет нравственная миссия художника прямо связывается с религиозным началом. Позднее в статье «О поэте и современном его значении» (1848) Жуковский выдвинет тезис о том, что религия является основой нравственности и, следовательно, искусства, процитировав в связи с этим строки из «Камоэнса»: «Поэзия небесной / Религии сестра земная, светлый / Маяк, самим создателем зажженный, / Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились / С пути. Поэт, на пламени его / Свой факел зажигай!» [Жуковский, 2012, с. 382]. Поэзия, как земное воплощение религии, по мнению Жуковского, призвана направлять людей к свету через духовные испытания. Вера выступает фундаментом нравственности, а поэт, следуя божественному вдохновению, выполняет миссию духовного наставника.
В третьем периоде жанровый репертуар критики Жуковского меняется. Жанровые доминанты – это конспекты, авторские эстетические манифесты, обзоры, речи, некрологи. На первый взгляд, критик возвращается к конспектированию, что было характерно для первого периода. Но на этом этапе конспект уже не играет ведущей роли в арсенале литературно-критических жанров Жуковского и свидетельствует об «эстетической переориентации» поэта на труды немецких предромантиков и романтиков [Жуковский, 2012, с. 495]. Главным шедевром этого периода считается «Рафаэлева Мадонна» (1821). Как известно, в основе названного эстетического манифеста лежало письмо великой княгине Александре Федоровне, которое поэт преобразовал в статью. Благодаря Жуковскому, картина «Сикстинская мадонна» стала значимым культурным символом в русской литературе и искусстве со времен романтизма. Она символизировала божественную красоту, идеалы, дух жертвенности и человечность и считалась высшим проявлением искусства и вдохновения. «Чудесное видение становится символом красоты, человечности, жертвенности», – отмечает Н.М. Ильченко [Ильченко, Пепеляева, 2016, с. 79].
В статье «Рафаэлева Мадонна» Жуковский раскрывает идею искусства как божественного откровения, где красота становится мостом между земным и вечным. «Час, который провел я перед этою Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою» [Жуковский, 2012, с. 343]. Он подчеркивает, что подлинное искусство пробуждает в зрителе «нравственное чувство», очищая душу через соприкосновение с идеалом. «Можно сказать, что все, и самый воздух обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей девы» [Жуковский, 2012, с. 344]. Манифест утверждает эстетику возвышенного, где художник – проводник высшей истины, а созерцание искусства – акт духовного преображения.
Четвертый этап (1840-е). В 1840-е гг. Жуковский написал всего четыре литературно-критические статьи («О поэте и современном его значении», «О меланхолии в жизни и в поэзии», «Две сцены из “Фауста”», «Об изящном в искусстве»). Это исключительно теоретические работы и эстетические манифесты. При этом их тематический репертуар довольно широк. Это и социальные вопросы литературы (место поэта в современности), и проблема меланхолии в жизни и поэзии, и роль изящного в искусстве. В письме к Н.В. Гоголю Жуковский писал: «поэзия, действуя на душу... это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу охватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника» [Жуковский, 2012, с. 377]. Критерий оценки – не «правда жизни», а «откровенная красота» и «дух художника». Для Жуковского главное – это внутреннее, нравственное содержание искусства, которое оставляет в душе «следы неизгладимые». Отметим, что такая позиция прямо противоречила характерному для этого времени утилитарному взгляду на искусство как на инструмент общественного прогресса. Гоголь тогда же переживает духовный перелом, работая над «Выбранными местами из переписки с друзьями». Его взгляд на литературу как на средство нравственного очищения и проповеди был очень близок Жуковскому.
В литературной критике 1840-х гг. магистральное направление критики двигалось в сторону социальности и публицистичности. Центральной фигурой, задававшей тон всей отечественной критике, был В.Г. Белинский. Его эстетическая программа была уже сформирована, и ее основным принципом стала социальная ангажированность литературы: искусство должно отражать общественные проблемы, жизнь в ее социальных проявлениях. Характерно, что Белинский в это время писал о «русском балладнике» в прошедшем времени, как о пройденном литературном этапе. Жуковский же в 1840-е гг. в своей критике углублялся в сферу этики, религии и внутреннего мира человека.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Для Жуковского нравственность и искусство были неразрывно связаны, так как он видел в литературе путь к духовному преображению человека. Его романтический идеал заключался не в бегстве от реальности, а в поиске высших ценностей – добра, красоты и истины, которые формируют нравственный стержень личности. Так, обратившись к творчеству В. Скотта, Жуковский отмечает: «его поэзии предаешься без всякой тревоги, с ним вместе веруешь святому, любишь добро, постигаешь красоту и знаешь, какое назначение души твоей… словом, ты насладился красотою создания поэтического; но в то же время душа твоя проникнута довольством другого рода: она вполне спокойна, как будто более утвержденная в том, что все ее лучшее верно» [Жуковский, 2012, с. 379]. Стремление к добру – часть духовного совершенствования, а национальное, в свою очередь, должно обогащаться общечеловеческими ценностями. Национальное искусство, согласно Жуковскому, становится «памятником», фиксирующим вечное Божественное начало в преходящем национальном бытии.
Как можно видеть, если на первых двух этапах своего литературно-критического творчества Жуковский был законодателем моды и одним из основоположников русской романтической критики, формировал язык, понятия, эстетические критерии для новой литературы, то в последующие два периода он стал хранителем нравственных традиций и автором духовного завещания, предложил альтернативный, углубленно-философский взгляд на сущность искусства, говоря не о сиюминутном, а о вечном.
Выводы. Подводя итоги, отметим, что литературная критика В.А. Жуковского представляет собой уникальный синтез нравственных, религиозных и эстетических идей, отражающих развитие русской литературы первой половины XIX в. Его работы не только определили эстетические принципы эпохи, но и заложили основы для дальнейшего развития русской литературной критики. Каждая из вех литературной критики Жуковского отличалась своими жанровыми и идейными доминантами и являлась определенным этапом развития его эстетической и литературно-критической мысли. От освоения европейских и отечественных образцов эстетики, представленных в оригинальной форме эстетико-философского конспекта, поэт обратился к работе над собственными сочинениями. Сначала Жуковский освоил практически весь жанровый репертуар критики своего времени (проблемная статья, «жанровая» рецензия, обзор, теоретическая статья, некролог и др.), а затем создал классические образцы отечественной эстетики («Рафаэлева Мадонна», «О меланхолии в жизни и в поэзии» и др.).