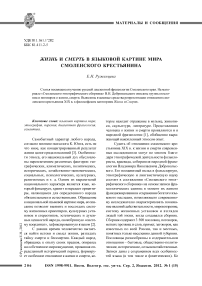Жизнь и смерть в языковой картине мира смоленского крестьянина
Автор: Руженцева Екатерина Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (15), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению русской диалектной фразеологии Смоленского края. На материале «Смоленского этнографического сборника» В.Н. Добровольского описаны группы пословиц и поговорок о жизни, смерти. Выявлены языковые средства репрезентации отношения смоленского крестьянина XIX в. к философским категориям Жизнь и Смерть.
Языковая картина мира, этнография, паремия, диалектная фразеология, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14969611
IDR: 14969611 | УДК: 811.161.1282
Текст научной статьи Жизнь и смерть в языковой картине мира смоленского крестьянина
Самобытный характер любого народа, согласно мнению психолога К. Юнга, есть не что иное, как концентрированный результат жизни целого ряда поколений [3]. Особенности этноса, его национальный дух обусловлены переплетением различных факторов: географических, климатических, политических, исторических, хозяйственно-экономических, социальных, психологических, культурных, религиозных и т. д. Одним из выразителей национального характера является язык, который фиксирует, хранит и передает ориентиры, являющиеся для определенного народа обязательными и естественными. Обращение к национальной языковой картине мира, ее описание позволят выявить и воссоздать систему жизненных ориентиров, культурных установок и стереотипов, эстетических и духовных ценностей народа, своеобразную «систему координат», зафиксированную языком [2].
С давних времен человечество пытается найти истоки и смысл жизни, разгадать тайну смерти и бессмертия. Каждый народ, обращаясь к опыту своих предков, опираясь на собственное мироощущение, проживая определенный исторический период, формирует особенное отношение к жизни и смерти, ко- торое находит отражение в музыке, живописи, скульптуре, литературе. Представления человека о жизни и смерти проявляются и в народной фразеологии [1], обобщенно выражающей накопленный этносом опыт.
Судить об отношении смоленского крестьянина XIX в. к жизни и смерти современные исследователи могут во многом благодаря этнографической деятельности фольклориста, краеведа, собирателя народной фразеологии Владимира Николаевича Добровольского. Его неоценимый вклад в фольклорную, этнографическую и лингвистическую науку состоит в составлении «Смоленского этнографического сборника» на основе записи фразеологических единиц в момент их живого функционирования и сохранении богатого языкового наследия, позволяющего современному исследователю охарактеризовать понимание явлений действительности, мировоззрение, систему жизненных установок и взглядов людей той эпохи, когда создавался сборник. Сборник содержит 3 500 пословиц, поговорок, метких прозвищ и слов, примет, заговоров, как известных по всей России, так и местных, понятных только населению данной губернии. Пословицы разнообразны в содержательном отношении – бытовые, общественно-политические, исторические, сельскохозяйственные. Записи даны с сохранением всех особенностей языка (в том числе и фонетических). Ко многим пословицам собиратель дал пояснения, указав место записи и определив значения.
Смоленский край на протяжении всей истории играл важную роль в судьбе России. Смоляне мужественно и стойко сражались с татаро-монголами, с польскими шляхтичами, наполеоновской армией, с фашистскими захватчиками. Пережитые испытания не могли не повлиять на характер смоленских жителей, на их понимание жизни и смерти.
Рассмотрим пословицы, включенные В.Н. Добровольским в группу «Жизнь». Открывает список из 27 паремий настраивающая на философские размышления пословица Наша жисть няздуманна, няспытанна, нисказанна, которая констатирует невозможность до конца разгадать, понять, объяснить и испытать все в этой жизни, постичь ее безграничность, богатство и непредсказуемость. Присущая жизни недосказанность и таинственность подчеркивается употреблением кратких прилагательных, их «нанизывание» (градация, перечисление) словно передает мелодию жизни.
Включенной в сборник общерусской пословице Жисть пиряжить – ня поля пиряй-ти синонимична паремия Годъ пражить – ни лукошка сшить . Пословицы развивают тему безграничности и сложности жизни. Образ поля восходит к архетипическому представлению человека о свободе, свободе души, чувств. Человеку, который стоит на краю поля, оно кажется бескрайним, но пройти его несложно, можно определить и почувствовать его начало и конец; дойдя до конца поля, можно вернуться к его началу. Однако в жизни человека все иначе: невозможно, пройдя весь жизненный путь, все «жизненное поле», вернуться к его началу, жизнь человека сложна, и он должен это понимать, чтобы строить свою жизнь разумно. Жизнь – это «ремесло», в ней всегда есть трудности, через которые должен пройти каждый человек.
Особенность душевного склада русского человека такова, что после череды выпавших испытаний и разочарований у него формируется привычка со всем мириться, принимать трудности, лишения как должное. На вяку уся-го наживешь – и Кузьму батькой наза-вешъ – так говорили простые смоленские люди о длинной и непредсказуемой жизни.
Двойственность всего в жизни, контрастное противопоставление всех ее составляющих отражены в семантике паремии Живеть кошка, живеть и собака . Образы кошки и собаки связаны с мифологическим представлением о двух противопоставленных природой и человеком существах. Там, где есть добро, всегда есть зло, счастье и радость граничат с несчастьем и горем, правда – с неправдой, любовь – с ненавистью, война – с миром и т. д. Представления о двойственности жизни отражены в пословице Въ жисти, када харашо, када худа; када мать, када мачеха . Отождествление матери с жизнью, а мачехи со злом обусловлено стереотипными народными представлениями. Мать ассоциируется у каждого с любовью, душой, теплом, заботой, а значит, счастьем и удачей, миром; а мачеха – со злом, ненавистью, жестокостью, нелюбовью, вражеской силой. Двучленность пословиц, сопоставление частей, употребление антитез «собака – кошка», «мать – мачеха» создают определенный ритм, позволяют ярче передать понимание человеком того, что все меняется и все бывает в жизни. Судьба то улыбается, то отворачивается, и человек должен быть готов к тому, что хорошее сменится плохим, надеяться на то, что за плохим непременно придет светлое и хорошее.
Неизбежное взросление человека, его совершенствование, приобретение и накопление им жизненного опыта – это естественная закономерность, поэтому важно научиться плавно и безболезненно переходить от одного этапа жизни к другому, забирая с собой накопленные знания и опыт. Ряд паремий из сборника В.Н. Добровольского констатируют именно этот факт: Тагда чилавЂкъ станить на стяпиняхъ жить, когда маткина шкура уся злЂзить радавая и абрастеть чи-ловЂкъ тэю, якою Бохъ пувЂлЂў , Въ маткиный шкури ни звякушъ: 5, 6 злЂзить , Въ адкей шкури ни звякушъ .
Страдания, разочарования, лишения и трудности могли бы вселить в душу народа тоску, отчаяние. Чтобы сохранить душевное равновесие и покой, человек выработал привычку не роптать в беде, умение веселиться, позабыв о проблемах, готовность ко всему, даже к смерти: Пить да гулять будимъ, придить смерть – пумирать будим, в этом широта и противоречивость русской души. Данная паре- мия, включенная исследователем в группу «Жизнь», передает философское отношение смоленского народа к жизни: человек принимает все, что есть в жизни, и смерть воспринимается как естественное ее завершение.
Следует отметить, что в группе пословиц о жизни есть неоднозначно трактуемые паремии, которые можно отнести к другим фразеосемантическим группам. Так, пословица ЖивЂмъ – ни матаимъ, чужого ни хва-таимъ, свайго ни ‘тсаўляимъ может быть отнесена к группе «Свое / Чужое». Такое взаимодействие фразеосемантических групп оправданно, поскольку определяет две важные жизненные установки, которых стремился придерживаться любой порядочный человек. Первая установка требует от человека бережно относиться к тому, что имеешь, вторая – никогда не посягать на чужое.
В список пословиц о жизни В.Н. Добровольский включил своеобразное этикетное правило Паздравствовались = провели добро . Это неслучайно, ведь добро у простого человека было непосредственно обусловлено жизнью, неслучаен и поставленный знак равенства: жизнь в народном понимании – это добро, пожелание добра окружающим людям. Даже в трудное время в сердце каждого человека жила и будет жить надежда на лучшее, на добро, а добро – один из главных жизненных ориентиров ( ВЂкъ – добрый чи-лавЂкъ ).
Особенности народного сознания всегда концентрируются вокруг загадочного явления смерти. В сборнике В.Н. Добровольского во фразеосемантическую группу «Смерть» включено сорок три паремии, они выражают общее значение.
Смерть – неизбежное явление, естественный финал существования всего живого, перед лицом смерти все люди равны (богатый и бедный, умный и глупый, красивый и некрасивый и т. д.), потому каждый человек должен быть к ней готов: Сколько ни красуйся, усе туды гатуйся; Гаспоть бяреть на свае руки и дурныхъ, и харошихъ; Смерть причину найдить; Атъ смерти никаго ня выличишъ; Атъ смерти нихто ни збаро-нить; Земля – матушка усих примаить; Смерть здаравЂй за ўсихъ; Судныга часу ни пириживешъ. Важно отметить, что лишь одна лаконичная, но емкая пословица, записанная В.Н. Добровольским, передает действительно весь трагизм смерти: НЂтъ правядливiй смерти. Смерть страшна, понять и принять ее невозможно.
Жизнь и смерть всегда соседствуют, идут рядом, грань между ними подчас очень тонка. Потому паремии ЧелавЂча, падумай на день ибъ смерти три разы ; Смерть ни кажась ходить ; Якъ пьяный мужикъ, такъ и смерть найдить причину прикапатца предупреждают о непредсказуемости всего в мире, о необходимости проживать каждый день со смыслом, ценить и оберегать свою жизнь.
Как и в рассмотренных паремиях о жизни, в паремиях о смерти акцентируется внимание на поэтапности человеческой жизни. Человек должен пройти предначертанный ему путь, прожить все важные этапы: Дай Бохъ разъ жа-нитца, разъ кряститца и разъ пумирать ; Два раза ня будимъ пумирать, а разъ .
Преодолеть страх перед смертью помогает ироничное отношение к ней: Нихай сабЂ памеръ: Бохъ Яго искаў , Нихай мруть и намъ дарожку труть, – и мы тады па торный дарожки адны па водным уси пайдемъ ; Сажень земли да чатыри даски усяго намъ нада . Это своего рода защитная реакция человеческого сознания, желание как можно проще и естественнее относиться к смерти, нежелание показывать свой страх.
По содержанию ряда паремий можно судить о погребальных традициях смоленских жителей. В пословице Пришолъ умирать на сваю лаўку существительное лавка обозначает и дом, в котором жил и родился человек, и родную деревню, родную страну. Человек желал встретить смерть на своей родной земле, там, где он родился, в доме, где он прожил свои лучшие годы. Поскольку, как уже было отмечено выше, человек понимал неизбежность смерти, ощущал хрупкость жизни, то старался подготовить важные атрибуты похорон заранее: Во зачимъ умирать ни нада: платка, пакры-вала нЂтъ . Данная пословица может быть истолкована как защитная реакция. Человек осознает неизбежность смерти, возможно, чувствует ее близость и пытается найти причину, по которой срок его ухода может быть отодвинут.
Похоронные традиции смоленских жителей, как и русского народа в целом, вклю- чают поминание с застольем. Однако В.Н. Добровольский приводит паремии, которые содержат явно негативную оценку подобного застолья: Жанюся, висялюся, пу-минаю сваю кишку набиваю; Радитилiў пуминаимъ и сами сваю кишку набиваимъ.
Естественным сопровождением смерти, похорон являются слезы, а также особые поминальные плачи, без которых не проходило ни одно прощание с умершим. Такие плачи смоленские жители называли «вытницами», в деревнях их пели женщины, обладавшие особым голосом: Свадьба слаўна пЂсними, хаўтуры вытницами (приведенная паремия также входит в группу пословиц «Бракъ», поскольку отражает и свадебный обычай петь песни и веселиться). Провожали умершего особыми словами: Харошiй былъ чилавЂкъ – чарствiя яму Божiя .
Некоторые паремии все же нельзя отнести к собственно пословицам. Особенности синтаксического строения (сложноподчиненное предложение с придаточным условия) и содержание позволяют квалифицировать их как народные приметы и наблюдения, которые передаются из поколения в поколение и которым человек верит искренне и порой с предубеждением.
Человек всегда стремился узнать свою судьбу, заглянуть в будущее, поэтому обращался к гаданию по линиям руки. Такое постижение судьбы было знакомо и смоленскому крестьянину. Доказательством этого является записанная В.Н. Добровольским примета скорой смерти человека: Если перевалитца сяред-ний рубецъ съ ладони, то человЂкъ скоро акончить жисть сваю. Люди внимательно относились к тому, как умирает человек, отмечали, что каждого настигает своя смерть: Смерть нираўна: иной якъ заснеть. Паща-бечить, пащабечить – сичасъ душа, якъ птичка, вылитить из тЂла. Другей мучит-ца – и лумаить Яго и карежить, и жалку-итца iонъ: «Ти задавилась мая смерть, ти привязана?!» И гарюить и мыкаить горя ниўмирущая съ рання и да вечира – и ни даеть Гаспоть яму спакою... Существованием загробной жизни, более легкой, светлой и счастливой, народ объяснял сложности и страдания мирской жизни, тяжелую смерть. Отсюда народное мнение, связанное с христианским мировоззрением: Если челавЂкъ хвараить, терпить пирядъ смертью – на тымъ свЂти яму будить легши.
В соответствии с христианской верой, в загробной жизни человек будет вознагражден за все лишения и страдания, перенесенные им на земле, душа приобретет бессмертие. Эти представления выражены в паремиях: Што ни заслужишь на етымъ свЂти, на тымъ палучишъ ; Дякъ крЂпка, такъ и квола ; КвалЂй души и крЂпчи души нЂту ничога да судныга часу ; Душа вылитаить мят-лушкымъ, птичкый, мухый, пчелкай .
Таким образом, рассмотрение паремий о жизни и смерти «Смоленского этнографического сборника» позволяет сделать следующие выводы. Категории жизни и смерти неразрывны, грань между ними очень зыбкая, потому и обнаруживаем пословицы о смерти в группе пословиц о жизни. Смоленский крестьянин всегда осознавал богатство, сложность, непредсказуемость, двойственность жизни, безвозвратность многих ее моментов; никогда не надеялся на легкую жизнь, со смирением принимая все испытания, веря в то, что за страдания он будет когда-то вознагражден.
Человек прошлого с мужественным спокойствием принимал смерть как естественную закономерность, естественный финал жизни, готовился к ней. Постоянная «память о смерти» и готовность к страданиям были основой кроткой и смиренной личности смоленского крестьянина XIX века.
Список литературы Жизнь и смерть в языковой картине мира смоленского крестьянина
- Корнилов, О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов/О. А. Корнилов. -М.: ЧеРо, 2003. -349 с.
- Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие/В. А. Маслова. -Минск: ТетраСистемс, 2005. -254 с.
- Юнг, К. Аналитическая психология: Прошлое и настоящее/К. Юнг. -М.: Мартис, 1995. -320 с.