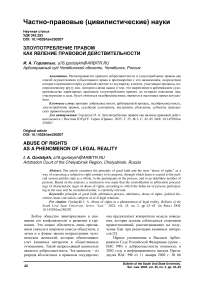Злоупотребление правом как явление правовой действительности
Автор: Горлатых И.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются принцип добросовестности и злоупотребление правом как способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого причиняется вред судебной системе и государству в целом, участникам процесса, неопределенному кругу лиц. Автором сделан вывод о том, что закрепление в арбитражном судопроизводстве характерных признаков злоупотребления правом, по которым поведение лиц, участвующих в деле, будет считаться недобросовестным, является в настоящее время актуальным.
Принцип добросовестности, арбитражный процесс, недобросовестность, злоупотребление правом, судейское усмотрение, внутреннее убеждение, субъекты гражданских правоотношений
Короткий адрес: https://sciup.org/147251178
IDR: 147251178 | УДК: 343.353 | DOI: 10.14529/law250207
Текст научной статьи Злоупотребление правом как явление правовой действительности
Любое общество заинтересовано в снижении его конфликтности и развитии в гармонии. Это можно обеспечить лишь признанием сначала в широком смысле обществом, а затем и в форме закона непреходящих человеческих ценностей, которые обеспечивают учет взаимных интересов в общественных отношениях. Такой непреходящей ценностью является добросовестность. Эта ценность – из разряда абсолютных в правовом государстве, она предполагает конкретную модель поведения, которая должна соблюдаться сторонами правоотношений, рассчитывающих на получение благ при реализации взаимных интересов [5].
Первое упоминание в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации (далее – ВАС РФ) о добросовестности появилось в 2002 году в информационном письме Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», в котором говорилось о добросовестном арендаторе, а также о добросовестном исполнении обязательства. В законе добросовестность появилась вследствие ее разработанности в правоприменительной практике.
Одним из ключевых постановлений Президиума ВАС РФ, определяющих принцип добросовестности в арбитражном процессе, является постановление от 20 октября 2020 г. № 3585/10, в котором требование к добросовестности при исполнении обязательств суд вывел из ст. 309 ГК РФ.
Спустя десятилетие, Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», в п. 2 которого указал: при применении принципа добросовестности необходимо учитывать, что поведение одной из сторон может быть признано злоупотреблением правом не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий лиц, участвующих в деле, от добросовестного поведения. В этих случаях суд при рассмотрении дела устанавливает факт злоупотребления правом и разрешает вопрос о применении последствий недобросовестного процессуального поведения, предусмотренных законом (например, ст. 111, 159 АПК РФ).
С учетом изложенного можно прийти к выводу о том, что Верховный Суд Российской Федерации не только признает категорию «злоупотребление правом» в арбитражном процессе, но и указывает на необходимость арбитражным судам при рассмотрении дела учитывать и иные принципы осуществления правосудия в Российской Федерации, в том числе добросовестность лиц, участвующих в деле, процессуальную экономию.
В. О. Аболонин отметил, что из проведенного комплексного историко-правового анализа следует заимствование юридической категории «злоупотребление правом» для российского правопорядка. Сам термин «злоупотребление правом» был предложен бельгийским юристом Ф. Лораном в ХIХ веке и впоследствии, с зарождением и развитием национальных доктрин злоупотребления пра- вом, был переведен и воспринят многими правовыми системами [1].
Фактически термин «злоупотребление правом» достаточно часто встречается в текстах нормативных правовых актов России. Вместе с тем вопросы о сущности, характерных признаках злоупотребления правом в юридической науке являются вопросами далеко неоднозначными и вызывают массу споров.
Следовательно, необходимо обратиться к науке гражданского права и посмотреть, что же понимают ученые под злоупотреблением правом.
Анализ различных точек зрения ученых (А. Г. Алексеева, В. В. Витрянского, Б. М. Гонгало, Я. В. Грель, С. Л. Дегтярева, Н. А. Дурново, А. А. Малиновского, А. В. Волкова, И. Б. Новицкого, И. В. Решетниковой, В. М. Шерстюка, А. В. Юдина, В. Ф. Яковлева, В. В. Яркова и др.), а также обращение к специализированным словарям и работам ученых по смежным исследованиям (А. М. Айкянц, О. И. Даровских, Д. А. Матанцев, М. В. Новиков, С. Д. Радченко) позволяет сделать вывод о том, что под злоупотреблением правом в арбитражном процессе можно понимать заведомо сознательное (умышленное) поведение участника арбитражных процессуальных правоотношений, обладающего процессуальными правами, осуществляемое в процессе правомерной реализации этих прав, но в противоречии с их смыслом и назначением, причиняющее либо способное причинить вред либо иные негативные последствия другим участникам процесса, обществу, государству.
Согласно Толковому словарю Т. Ф. Ефремовой термин «недобросовестный» означает «работающий небрежно и без чувства ответственности» [3], то есть, если какое-либо поведение субъекта ограничено правовыми пределами, и при этом субъект нарушает их, – это называется неправомерным поведением, при этом, если законом не предписаны ограничения реализации прав, и субъект нарушает их без чувства ответственности, – это как раз называется злоупотреблением правом. Данный признак «без чувства ответственности» присутствует только тогда, когда законом не предусмотрена мера ответственности за такое поведение, иными словами, отсутствие юридической ответственности является фактором недобросовестного поведения.
Исследуя позицию А. А. Малиновского относительно признаков злоупотребления правом, согласно которой преимущественно трудности возникают из-за того, что само понятие «злоупотребление субъективным правом» в большинстве случаев является оценочным, и, как следствие, это означает отсутствие возможности у правоприменителя отыскать в законе четко прописанные признаки злоупотребления тем или иным правом [4].
Я. В. Грель указал, что в условиях современного состязательного процесса, когда возросла потенциальная опасность процессуальных злоупотреблений сторон, имеет место потребность более гибкого правового регулирования. В российском цивилистическом процессе идея недопустимости злоупотреблений процессуальными правами находит основание в общей оговорке о добросовестном использовании лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав (ч. 2 ст. 41 АПК РФ). Общая оговорка самостоятельно участвует в правовом регулировании в качестве запрета злоупотребления процессуальными правами, согласно которому использование процессуального права, обращенного против правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судебного дела, равноправия сторон либо крайне несправедливым образом нарушающего интересы встречной стороны, признается судом недопустимым [2].
Действительно, вышеперечисленные трудности нередко приводят к тому, что суды, рассматривая аналогичные дела о злоупотреблении субъективным правом, выносят прямо противоположные решения.
Так, при рассмотрении заявления о признании незаконными действий органа местного самоуправления ответчиком представлена только выписка из протокола публичных слушаний в отношении заявителя (поскольку данный документ находился в распоряжении структурного подразделения), который утверждал в ходе судебного разбирательства о предоставлении полного пакета документов, необходимого для участия в публичных слушаниях, при этом в представленном документе данный факт не отражен. В связи с этим, возникла необходимость предоставления документа в полном объеме, о чем неоднократно судом указано в определениях об отложении судебного разбирательства. Поскольку структурным подразделением данный документ в полном объеме не представлен, суд пришел к выводу о недобросовестном поведении участника арбитражного процесса путем наложения судебного штрафа за неисполнение определения суда, в том числе в части непредставления доказательств, необходимых, по мнению суда первой инстанции, для рассмотрения настоящего дела с учетом доводов заявителя.
Вместе с тем, рассмотрев апелляционную жалобу и оставив решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции указал: «Между тем в рассматриваемом случае, по мнению суда апелляционной инстанции, непредставление непосредственно Управлением истребованных доказательств не являлось препятствием для рассмотрения заявления по существу, поскольку Администрация представила данные документы в материалы дела».
Следовательно, в судебной практике отсутствует не только единое понятие злоупотребления правом, но и критерии отнесения тех или иных отношений к злоупотреблениям. При этом суды, признавая определенное поведение участников процесса как злоупотребление правом, не ссылаются на нормы действующего законодательства, то есть исходят из своего судейского усмотрения на основании ст. 71 АПК РФ.
Председатель Совета судей РФ В. В. Мо-мотов считает: «Судейское усмотрение - это признак развитого правопорядка и необходимый институт, позволяющий применять абстрактные правовые предписания к конкретным жизненным ситуациям. Оно связано с возможностью выбора в условиях альтернативы: судья правомочен избрать одно из нескольких вариантов решений, предусмотренных законом… В сложных делах судейское усмотрение - это итог опыта и мировоззрения судьи. Судья не существует в «безвоздушном пространстве» - он живет в обществе, впитывая ценности своей эпохи, на основе которых формируется личность и взгляды каждого судьи… Рассматривая проблему судейского усмотрения через призму «блага» или «зла», «возможности» и «необходимости», нужно обратить внимание на то, что, делая соответствующие выводы, мы презюмируем добросовестность судьи. И тогда судейское усмотрение - это благо, дающее возможность определиться с тонкими гранями справедливости и законности. Это одновременно и возможность, и необходимость в условиях конкурен- ции норм права, неопределенности языка права и несовершенства законодательства» [5].
Соответственно, категория «судейское усмотрение» позволяет рассматривать его, в том числе как структурно-психологический элемент механизма формирования внутреннего убеждения судьи. Словосочетание «внутреннее убеждение» (исходя из общепринятого смысла) означает мнение (точку зрения), сформировавшееся у судьи по результатам изучения обстоятельств рассматриваемого им дела.
В заключение отметим, что законодательно закрепленный принцип добросовестности арбитражного права, предполагающий добросовестное поведение его субъектов при установлении, осуществлении и защите прав и исполнении обязанностей, необходимо до- полнить характерными признаками злоупотребления правом и разработать классификации злоупотребления правом, по которым поведение лиц, участвующих в деле, будет считаться недобросовестным. Вместе с тем при рассмотрении дел и вынесении итогового судебного акта суды все чаще исследуют, в совокупности с представленными доказательствами, добросовестность поведения лиц, участвующих в деле, в частности, по представлению доказательств. В связи с этим в настоящее время судебная практика активно занимается формированием четких критериев должного поведения лиц, участвующих в деле, в той или иной ситуации, с целью установления добросовестности сторон и исключения злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).