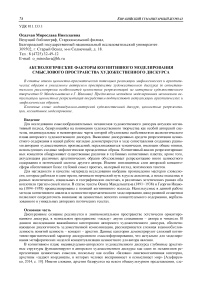Аксиологические факторы когнитивного моделирования смыслового пространства художественного дискурса
Автор: Осадчая Мирослава Николаевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Текстологические исследования
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье описан ценностно-прагматический потенциал реализации мифологических и архетипи-ческих образов в уникальном авторском пространстве художественного дискурса (в сопоставительном рассмотрении особенностей ценностных репрезентаций на материале художественного творчества О. Мандельштама и Г. Иванова). Предложена методика моделирования механизмов актуализации ценностных репрезентаций посредством подтекстовой актуализации архетипических и мифологических образов.
Индивидуально-авторский художественный дискурс, ценностные репрезентации, когнитивное моделирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147229764
IDR: 147229764 | УДК: 811.133.1
Текст научной статьи Аксиологические факторы когнитивного моделирования смыслового пространства художественного дискурса
Для исследования смыслообразовательных механизмов художественного дискурса актуален когнитивный подход, базирующийся на понимании художественного творчества как особой авторской системы, индивидуальные и неповторимые черты которой обусловлены особенностями аксиологического плана авторского художественного дискурса. Выявление дискурсивных средств репрезентации ценностного содержания в нашей работе наглядно демонстрируется в ходе сопоставления созданных разными авторами художественных произведений, перекликающихся тематически, имеющих общие топики, использующих сходные мифологические прецедентные образы. Когнитивный анализ репрезентированных концептов обнаруживает существенные различия в глубинных когнитивных пластах; кроме того, актуализация различных архетипических образов обусловливает репрезентацию иного ценностного содержания в поэтической системе другого автора. Именно имплицитные слои авторской концепто-сферы обеспечивают более глубокий смысл простых, на первый взгляд, поэтических текстов.
Для наглядности в качестве материала исследования выбраны произведения мастеров словесности, которые работали в одно время, начинали творческий путь в русле акмеизма, а позже оказались в разных политических, социальных и географических системах, в различных эстетических рамках оба воплотили трагизм своей эпохи. В статье тексты Осипа Мандельштама (1891—1938) и Георгия Иванова (1894—1958) проанализированы с позиций когнитивного подхода. Используемые в данной работе методы когнитивного анализа и ценностно-прагматического моделирования дискурсивной семантики позволяют сосредоточить внимание на ценностных аспектах концептуального содержания, вербализованного в уникальных авторских поэтических текстах.
Основная часть
Дискурсивное сознание реализуется в лингвоментальном пространстве эстетически ориентированного дискурса, в ментальном пространстве «между» двумя сознаниями - автора и читателя. В данном исследовании важнейшими категориями авторского художественного дискурса, обеспечивающими диалогичность художественной коммуникации, рассматривается сложная взаимообусловленность понятий ценность - концепт - архетип. Данные категории демонстрируют сложный когнитивно-прагматический характер дискурсивного смыслоформирования, что актуально для моделирования метафорических моделей концептуализации ценностного для автора явления.
В когнитивном плане индивидуально-авторского художественного дискурса глубинные архетип-ные структуры функционируют в авторском художественном дискурсе как один из механизмов репрезентации ценностных смыслов, поскольку как особая «базовая» лингвокогнитивная категория, архетипы «задают координаты, в которых человек воспринимает и осмысливает мир» [Алефирен-ко, 2014, с. 10]. Иными словами, архетип базируется на неком общекультурном представлении, еле- довательно, включает когнитивные элементы типового характера. Соответственно, «универсальность» мифологических моделей миропонимания [Мелетинский, 2006, с. 231] воплощается в образах стереотипного характера.
Рассматривая понятия стереотипа и архетипа как «предельно обобщённые формы образного сознания», М. Эпштейн считает стереотип «демонстративно опустошённым от всякого личностного, душевно претворённого содержания», в то время как архетип «именно в индивидуальном творчестве обретает значимость и полноту» [Эпштейн, 2016, с. 132]. Художественная репрезентация архетипических образов в авторском дискурсе преимущественно связана с мифонимами как «коннотативнопрагматическими сигналами», маркирующими в образной форме совмещение культурно-значимой информации [Алефиренко, 2014, с. 11] с авторским своеобразием вербализации.
Исследование художественного дискурса как лингвоментальной среды позволяет предположить, что ценностные факторы предопределяют структурирование когнитивных элементов художественного пространства, поскольку концепт является ценностно-отмеченным элементом когнитивной структуры дискурса. Соответственно, понимание концепта как «идееносителя» позволяет соотнести «речемыслительные интенции авторов художественных текстов» с категорией образа [Алефиренко, 2014, с. 13]. Анализ концептосферы художественного дискурса показывает, что в художественном дискурсе номинативное имя концепта часто не соответствует использованной автором лексике, что легко продемонстрировать. Например, исследователем И.А. Тарасовой отмечена частотная для русской эмигрантской поэзии актуализация «архаической связи снега и смерти», которая базируется на переосмыслении представлений о загробном мире [Тарасова, 2012, с. 152]. Георгий Иванов, действительно, в поздних произведениях эмигрантского периода во множестве текстов и посредством широкого ряда образов описывает почти «загробное» своё существование без России:
«... И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой» [Иванов, 1989, с. 87]. Однако, при очевидной простоте построения текстов, вербализованные в поэзии Иванова когнитивные структуры часто не соответствуют буквальной лексической номинации. Например, следующий текст Георгия Иванова написан в 1921 г., в пору влюблённости поэта и ещё до его отъезда из России:
«...Иза плечом твоим глядит любовь моя
На этот снежный рай, в котором ты и я» [Иванов, 1989, с. 36]. Словом рай именованы как раз не загробные реалии, а метафорическая концептуализация «Счастья». В данном примере даже синтагматическое соседство и согласование с эпитетом снежный не актуализирует ту аксиологически негативную вербализацию ‘смертной тоски’, о которой говорит И.А. Тарасова. Вполне очевидно, что необходимо сопоставление средств вербализации с когнитивным основанием, поскольку анализ лексических единиц художественного текста и их частотности недостаточен для исследования художественного дискурса.
Важными представляются следующие моменты. Во-первых, мифологизированные коннотации образов снега, мороза или ледяного пространства, именно в эмигрантском творчестве закрепились как аксиологические средства вербализации (см. [Тарасова, 2012, с. 151-152], [Васильева, 2014, с. 104—105]). К примеру, устойчивая интеграция концептов «Зима» и «Смерть» наблюдается в хронотопе остановившегося времени в эмиграции у Иванова:
Заметает сумрак снежный
Все поля, все расстоянья.
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье [Иванов, 1989, с. 87]. Словосочетание «надежда безнадежная» выступает индивидуально-авторской номинацией концепта «Изгнанник», репрезентируя в творчестве Иванова ценность «Родины»:
«А могло бы быть иначе» слышу я как обещанье [Иванов, 1989, с. 87]. В поэтических текстах Иванова встречается множество подтверждений того, как ценностно актуализированные образы (снега, далёкой России, тоски и изгнанничества) формируют устойчивые контаминации ценностносмыслового пространства его индивидуально авторского художественного дискурса. Этим объясняется генерирование аксиологических смыслов даже в нейтральных, на первый взгляд, текстах:
И нет ни Петербурга, ни Кремля,
Одни снега, снега, поля, поля... [Иванов, 1989, с. 79]. Очевидно, что для моделирования когнитивной структуры семантики авторских номинаций в художественном дискурсе важен ценностный аспект.
Интересно, что не эмигрировавший Мандельштам тоже ощущает трагизм эпохи, и концептуализация «Изгнания» также сопровождается образными вариациями снежного морозного пространства, когда «...ночь зимняя гремит по улицам Москвы» [Мандельштам, 1993, с. 51] или «...белый, белый снег до боли очи ест» [Мандельштам, 1993, с. 37]. Сопоставление когнитивного основания похожих в лексическом наполнении поэтических образов наглядно подчёркивает значимость именно аксиологического плана художественного дискурса, поскольку в творчестве Мандельштама ценностью выступает «Поэзия». Как Поэт и ради «Поэзии» он остаётся в неуютном холодном пространстве, поскольку это миссия только «избранных»:
Кому зима - арак и пунш голубоглазый, <... >
Кому жестоких звёзд солёные приказы
В избушку дымную перенести дано [Мандельштам, 1993, с. 36]. Отчётливо видны недобрые коннотации образов зимы и снега, но ради высокой цели Поэт может смириться с несправедливым и опасным окружением в новой стране:
По старине я принимаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда [Мандельштам, 1993, с. 51]. Семантика лексических вербализа-торов наполняется под воздействием аксиологических факторов, формирующих восприятие художественных текстов.
Второй важный момент заключается в том, что рассматриваемые аксиологически нагруженные «экзистенциальные образы», репрезентирующие интеграцию образов «Снега» и «Родины», функционируют именно в эмигрантском художественном дискурсе [Нагибина, 2015, с. 39]. Думается, в когнитивном аспекте их следует рассматривать как своеобразные «культурные стереотипы», причём, именно как «репрезентанты русского культурного пространства» [Красных, 2016, с. 322—323]. Соответственно, в художественном дискурсе Г. Иванова вербализация тоски по России репрезентирует ценность «Родины», представленной в образах прежней России, что сопровождается идеализацией и несколько пасторальным характером аксиологически нагруженных контекстов, которые мы рассматриваем как «ценностные репрезентации» [Семененко, 2011, с. 351]. Сопоставление аксиологических номинаций в текстах разных авторов позволяет показать, что поэты в иной аксиологической системе вербализуют ценностно значимые для них явления. В то же время, данный подход подтверждает и тот факт, что ценности следует рассматривать как не объективную категорию художественного дискурса.
В художественном дискурсе Мандельштама нами выявлен ценностный статус концептуальной сферы «Поэзия». Представляющее для поэта особый мир, не подверженный влиянию времени и не доступный разрушению под действием «толпы», поэтическое пространство обеспечивает истинному Поэту экзистенциальную свободу от разрушающего искусство давления социальной «Системы». Однако, мы не находим аналогичной ценности «Поэзии» в стихах Иванова. Удачным примером предстаёт текст Иванова, написанный в 1936 г.:
...Вечный сон: забор, на нём слова.
Любопытно - поглядим-ка.
Заглянул. А там трава, дрова,
Вьётся та же скука-невидимка [Иванов, 1989, с. 144]. Легко прочитывается аллюзия к паремиче-скому тексту «на дворе - трава, на траве - дрова», репрезентирующему в данном контексте концепт «Банальность». Не вдаваясь в тонкости правомерности трактовки данного текста как паремического, можно видеть его роль в репрезентации аксиологического содержания. Трансформированный автором этнокультурно значимый текст реализует «дискурсивный потенциал», подтверждая не только способность «служить текстообразующим средством» [Семененко, 2015, с. 55], но и демонстрируя механизмы генерирования ценностной составляющей концептуального пространства авторского художественного дискурса.
Также следует отметить роль синтаксической организации: простейшая перечислительная конструкция на синтаксическом уровне языковой системы репрезентирует тот же концепт «Банальность».
Важно и то, как в ценностном плане репрезентируется оценка «Слова», которое обесценено до надписи на заборе. Концепт «Поэзия» в таком контексте приобретает признаки ‘банальность’ и ‘механистичность’, теряя ценностную актуализацию. Думается, в аллюзии скрыта и авторская оценка всей эмигрантской поэзии, к этому времени фактически лишившейся массового читателя, заметно ограничившейся в тематическом плане и уже потерявшей энтузиазм противостояния советской России [Костюков, 2009, с. 240].
Сопоставление демонстрирует, насколько различаются диаметрально противоположные аксиологические системы двух авторов:
-
1) лирический герой Мандельштама, даже лежащий «в земле», жив, пока есть «губ шевеление»;
Лишив меня морей, разбега и разлёта
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы - блестящего расчёта,
Губ шевелящихся отнять вы не смогли [Мандельштам, 1994, с. 94]; репрезентирована спасительная сила «Поэзии»;
-
2) лирический герой Иванова в мёртвом мире не живёт, хотя продолжает читать «слова на заборе», в остановившемся и поэтому «вечном» времени, в мире «банальной и сладкой тоски» [Иванов, 1989, с. 134] продолжает с кем-то разговаривать:
О нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания.
Я попросту хлороформирую
Поэзией своё сознание [Иванов, 1989, с. 133]. Важно отметить, что нами сопоставляются сложившиеся поэтические системы не раннего (часто подражательного) творчества. Это зрелые поэты, и векторы их творческого поиска постепенно расходились в разных направлениях.
Можно сделать некоторые выводы, обобщив ценностные аспекты концептуального плана художественного дискурса Г. Иванова. Георгий Иванов на три года младше Осипа Мандельштама, они почти одновременно вошли в литературные круги Петербурга, бравируя своей дружбой и нарочито богемным образом жизни. Позже Иванов эмигрировал из советской России, но и Мандельштам не стал своим в новой стране. Поэтому трагическое одиночество очевидным образом объединяет произведения этих разных авторов, при этом позволяя в сопоставлении посредством когнитивного анализа ценностных репрезентаций выявить глубинные когнитивные механизмы репрезентации различий в аксиологическом плане художественного дискурса.
В лингвоментальном пространстве художественного дискурса Г. Иванова когнитивная антиномия проводит аксиологический раздел через вариативность концептуализации образа «Родины»: виртуальная Россия прошлого - современная советская Россия. Объяснимые коннотации, характерные для всей поэзии русского зарубежья, у Иванова специфически приобретают черты загробного мира. Идиллии прежней жизни в поэзии Иванова были вербализованы в архетипических образах «Золотого века», теперь же пасторальный хронотоп поэзии Иванова до-эмигрантского периода сменяется образами ‘пустоты’ и ‘мёртвого пространства’, в котором продолжают существовать лирический герой, его любимая, литературные оппоненты, изредка упоминаются детали городских пейзажей Парижа или Ниццы. И это «Загробное существование» локализовано в хронотопе «Эмиграция».
Различия в механизмах актуализации аксиологического содержания хорошо видны на примере функционирования в разных поэтических системах, например, имени Ленора - это известный персонаж немецкого романтизма, в балладах Ленора выступает своеобразным посредником между царством мёртвых и живых. В тексте Мандельштама семантический объём данной номинации, в ряду перечислений других литературных имён, не ограничен:
Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигея, Серафита... [Мандельштам, 1993, с. 125].
В тексте Иванова аллюзия к этому же балладному образу точно повторяет ритмику перевода В. Жуковского. В данном тексте посредством использования романтического образа Леноры воплощён не просто мир загробного существования, но предельно усиливается качество ‘неживого’, представляя эмигрантский мир «мертвее мёртвого»:
Леноре снится страшный сон -
Леноре ничего не снится [Иванов, 1989, с. 128]. Отчётливо видно, как достаточная логичность в синтаксическом и смысловом построении фразы конкретизирует коннотации дискурсивного смысла. В тексте Мандельштама отдельная номинация того же персонажа оставляет неопределённым спектр коннотаций, предоставляя читателю широкий простор для образного «достраивания» эстетического пространства.
Мифологический подтекст можно рассматривать как имплицитный элемент авторского кода, оказывающий заметное влияние на формирование образного строя произведения. При этом лексическое наполнение художественных текстов, выступая эксплицитным и материально выраженной «словесной тканью» авторского творчества, вербализует сложный многоуровневый характер когнитивных структур. В когнитивный план эстетически ориентированного дискурса помимо базовых когнитивных элементов концептуализации включены стереотипные образы, культурные символы, мифологические подтексты, исторические аллюзии - всё то, чем наполнены коды культуры как «основной способ организации культурного пространства» [Ковшова, 2012, с. 169]. Художественные произведения рассматриваемых авторов посредством апелляции к разным прецедентным образам «включаются» в культурный пласт эстетически ориентированного дискурса. Неповторимый характер авторской трак- товки известных образов мифологического пространства культуры и делает возможным подход к исследованию художественного дискурса конкретного автора как уникальной поэтической системы.
Заключение
Наше исследование механизмов формирования смысла во взаимодействии стабильных и нестабильных смыслообразующих элементов дискурсивного пространства показывает, что смыслоформирование можно понимать как спонтанный процесс лишь условно, поскольку множество факторов, определяющих направления смысла, задают несколько «конкурентных» векторов. Традиционные мифологические образы, опирающиеся на архетипические представления, в смыслопорождающем пространстве художественного дискурса генерируют аксиологический потенциал авторских дискурсивных номинаций. Тем самым, мифологический подтекст выступает связующим элементом для нескольких когнитивных структур, вербализованных в разных текстах автора.
Таким образом, в числе факторов, определяющих специфику художественного своеобразия поэтических текстов, следует рассматривать индивидуально осмысленное ценностное содержание, вербализованное в художественных текстах автора. Субъективностью мировосприятия конкретного автора обусловлен специфический контур ценностного плана в авторском художественном дискурсе.
Список литературы Аксиологические факторы когнитивного моделирования смыслового пространства художественного дискурса
- Алефиренко Н.Ф. Фразеологические логоэпистемы: архетипы и символы // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). С. 7-13.
- Васильева М.А. Двойник-отражение: эволюция мотива в лирике Г. Иванова // Сюжетология и сюжетогра-фия. 2014. № 2. С. 100-107.
- Иванов Г.В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. Москва: Книга, 1989. 574 с.
- Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 456 с.
- Костюков Л.В. Иванов Г.В. // Русские писатели, ХХ в.: биограф. словарь / Сост. О.И. Шайтанов. Москва: Просвещение, 2009. С. 240-241.