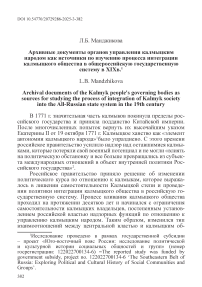Архивные документы органов управления калмыцким народом как источники по изучению процесса интеграции калмыцкого общества в общероссийскую государственную систему в XIX в.
Автор: Манджикова Л.Б.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Источниковедческий анализ
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется процесс интеграции калмыцкого общества в общероссийское государственное пространство через изучение состава и содержания архивных документов, созданных в период деятельности органов управления калмыцким народом XIX в. Исследования показали, что архивные документы являются письменными источниками по изучению наиболее важного, но довольно сложного периода в истории калмыцкого народа: 1) уход большей части калмыков из российского государства и ликвидация Калмыцкого ханства (1771 г.) повлекли за собой лишение самостоятельного развития Калмыцкой степи, смены системы протектората на систему подданства; 2) изменения во всех сферах жизни калмыцкого народа, связанных с проведением административных реформ в российской государственной системе управления, в т. ч. повлиявшие на социальный статус и прав калмыцкой знати, их отношение к российскому дворянству и необходимости подтверждения законных прав на владение улусами, аймаками; 3) появление новых прослоек в структуре калмыцкого общества: чиновников в качестве переводчиков и толмачей, наемных работников; 4) проведение госполитики по постепенному переходу калмыков на оседлый образ жизни, через строительство деревянных домов для калмыков, пожелавших перейти к оседлости и крестьян-переселенцев, которые должны были стать образцом ведения оседлого земледельческого хозяйства. Таким образом, исследование показало, что постепенно калмыцкое общество вливалось в общероссийскую государственную систему, и происходил процесс взаимопроникновение культурных, хозяйственных и других сторон жизнедеятельности разных народов, связанных общей историей российского государства.
Калмыцкая степь, калмыцкое общество, интеграция, оседлость, административная реформа, архивные документы
Короткий адрес: https://sciup.org/149149227
IDR: 149149227 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-382
Текст научной статьи Архивные документы органов управления калмыцким народом как источники по изучению процесса интеграции калмыцкого общества в общероссийскую государственную систему в XIX в.
В 1771 г. значительная часть калмыков покинула пределы российского государства и приняла подданство Китайской империи. После многочисленных попыток вернуть их высочайшим указом Екатерины II от 19 октября 1771 г. Калмыцкое ханство как «элемент автономии калмыцкого народа»1было упразднено. С этого времени российское правительство усилило надзор над оставшимися калмыками, которые потеряли свой военный потенциал и не могли «влиять на политическую обстановку и все больше превращались из субъекта международных отношений в объект внутренней политики Российского государства»2.
Российское правительство приняло решение об изменении политического курса по отношению к калмыкам, которое выражалось в лишении самостоятельности Калмыцкой степи и проведении политики интеграции калмыцкого общества в российскую государственную систему. Процесс вливания калмыцкого общества проходил на протяжении десятков лет и начинался с ограничения самостоятельности калмыцких владельцев, постепенным установлением российской властью надзорных функций по отношению к управлению калмыцким народом. Таким образом, изменился тип взаимоотношений между центральной властью и калмыцким об- ществом. Систему протектората сменила система подданства3. Во второй половине XVIII в. завершился начальный этап преобразований калмыцкого управления. Однако мероприятия проводились без системного подхода, не было госпрограмм, разработанных с учетом произошедших изменений в калмыцком обществе. Кроме того, на эти процессы оказали влияние проводимые в российском государстве административные реформы в системе управления, которые призваны были урегулировать взаимоотношения верховной власти с органами власти по управлению инородцами, в том числе калмыками.
К началу XIX в. калмыки вошли в общероссийскую политико-административную систему, Калмыцкая степь была приравнена к области и в таком положении стала составной частью Астраханской губернии.
Впервые был создан областной орган управления, который именовался Астраханской Комиссией калмыцких дел (1826–1836 гг.) (далее – АККД). Данный орган управления был создан в соответствии с «Правилами для управления калмыцким народом», утвержденными Александром I в марте 1825 г. (далее – Правила 1825 г.)4 и выполнял распорядительно-исполнительные функции. В его компетенцию входило административное и хозяйственное управление калмыцким народом, а также выполняла некоторые судебные функции. Правилами 1825 г. регламентировались взаимоотношения АККД с Главным приставом, который призван был защищать интересы калмыцкого народа, осуществлять надзорные функции за деятельностью наместников, Зарго (Суд). Также Главный пристав обязан был информировать МВД об обстановке в улусах, в случае появления заразной болезни должен был принимать меры по борьбе с ней5. Калмыцкая знать (нойоны и зайсанги) осуществляли управление улусами и аймаками.
С принятием нового законодательного акта – «Положения об управлении калмыцким народом» от 24 ноября 1834 г.6 в управлении Калмыцкой степью происходят кардинальные перемены: во-первых, центральное управление Калмыкией оставалось в ведении МВД; во-вторых, астраханский военный губернатор стал уполномоченным по управлению калмыцким народом; в-третьих, за Калмыцкой степью оставалось право «особого управления, отдельное от управления губернского»7; в-четвертых, Комиссия калмыцких дел была преобразована в Совет Астраханского калмыцкого управления (1836–1848 гг.) (далее – САКУ); в-пятых, упраздняется должность Главного пристава; в-шестых, создается институт попечительства и вводится должности Главного попечителя и попечители улусов8.
Полномочия Главного попечителя значительно возросли, он не был подконтрольным центральному органу, руководил деятельностью САКУ и улусными управлениями; осуществлял надзор за владельцами, налоговым сбором; отвечал за развитие торговли и промышленности, наем на рыбные промыслы; за пребывание в улусах лиц некоренной национальности. САКУ предварительно рассматривал поступившие документы, и в случае определения преступления как тяжкие уголовные мог назначить следствие. Также мог назначить проведение следственных мероприятий в случае выявления фактов злоупотребления чиновниками. САКУ имел право в зависимости от характера преступления и статуса нарушителей законов направлять на рассмотрение дела в Зарго (Суд), улусные суды или в губернское правление. САКУ должен был в кратчайшие сроки рассматривать дела, принимать решения и отчитываться в письменном виде вышестоящему должностному лицу.
В рассматриваемый период был создан новый тип аппарата управления калмыцким народом, и установленная попечительская система управления, в большей степени стала системой управления, а не надзора. Административные реформы в российской государственной системе управления продолжались как в центральных органах, так и на местах. Уже через год после создания САКУ полномочия по управлению калмыцким народом перешло в ведение Министерства государственных имуществ (далее – МГИ) и управляющий Астраханской палатой государственных имуществ (далее – АПГИ) назначается Главным попечителем калмыцкого народа9. Также управляющий АПГИ находился в подчинении астраханского военного губернатора, который осуществлял руководство жизнедеятельностью народов, проживающих на территории Астраханской губернии, в том числе калмыцким и «олицетворял собой единство калмыцких земель с Астраханской губернией»10.
Из вышеизложенного следует, что управление Калмыцкой степью находилось в ведении: 1) ведомства государственного имущества; 2) военного губернатора, осуществлявшего административно-полицейский надзор; 3) Главного попечителя.
П ереход к попечительской системе управления привел к росту численности чиновников, усилению бюрократизма, увеличению документооборота. К управлению стала привлекаться калмыцкая элита, которой были «чужды и непонятны принципы и формы организации российской государственной знати»11. Также для нее были характерны незаинтересованность и непонимание ее предназначения в управлении, а также незнание российских законов. Калмыки жили по своим законам. Важно отметить, что калмыцкое делопроизводство велось на двух языках – русском и старокалмыцком, что стало возможным благодаря наличию у калмыков собственной письменности, известной как тодо бичиг («Ясное письмо»).
И это создавало сложности в работе, так как не хватало переводчиков и толмачей. Нужно было решать кадровые вопросы, и уже в 1843 г. в состав чиновников вошли 6 калмыков, являвшихся внештатными табельными чиновниками, в должность переводчиков12. В последующие годы количество чиновников со знанием калмыцкого языка возрастало в связи с поступлением на службу выпускников класса калмыцкого языка Санкт-Петербургской медицинской школы. Специалистов направляли на службу по требованию АПГИ. Также решению кадровых вопросов способствовало открытие в 1847 г. Астраханского калмыцкого училища.
Создание училища было регламентировано Положением об управлении калмыцким народом от 23 апреля 1847 г. (далее – Положение 1847 г.)13, которое учитывало последние изменения, «сообразные с местными потребностями и пользами калмыков» 14, и после тщательного изучения предыдущего опыта вовлечения калмыцкой знати к управлению, целесообразности слияния калмыцкого управления с общегубернским и его вливания в общероссийскую государственную систему управления. Данным законодательным актом САКУ было упразднено, его заменило Ордынское отделение АПГИ (1848–1867 гг.). В отличие от предыдущих органов управления калмыцким народом, полномочия Ордынского отделения были расширены. К прежним функциям были включены полномочия по переводу калмыков на оседлый образ жизни и заселения дорог.
Согласно Положению 1847 г., управление Калмыкией продолжало осуществляться МГИ. Данный законодательный акт детально определял структуру управления калмыцким народом, задачи и функции каждого звена управления. Также, для эффективности управления были введены ряд новых руководящих должностей, включая советника, чиновника по особым поручениям и депутата от народа, избираемого из числа калмыцкой знати, владеющего русским языком, сроком на три года. Кроме того, были созданы новые штатные единицы, такие как врач, фельдшер, ветеринар, письмоводитель, переводчик, толмач и писец15.
Новшества произошли и в системе местного самоуправления Калмыкии, связанные с введением улусных и аймачных сходов. Эти собрания по принципам действия и представительства, напоминали по своей структуре и функциям сословно-представительный орган власти.
Организация местного самоуправления, основанная на цензовом представительстве, имела черты, схожие с крестьянским са-моуправлением16. Тем самым правительство стремилось сблизить калмыцкое управление с общероссийским и подготовить калмыцкое общество к коренным преобразованиям в социально-политической жизни Калмыцкой степи.
Установленная организация управления Калмыцкой степью оказалась приемлемой и после преобразования в 1867 г. АПГИ в Астраханское Управление государственных имуществ (далее – АУГИ).
Система управления калмыцким народом осталась в целом неизменной, однако Ордынское отделение АПГИ было преобразовано в Управление калмыцким народом (далее – УКН). В 1902 г. управление калмыками полностью перешло в ведение Астраханского губернского правления, а Калмыцкая степь – в ведение МВД. УКН действовало вплоть до Февральской революции 1917 г. в России. К концу XIX в. – начале XX в. завершился процесс интеграции калмыцкого общества в общероссийское пространство, и исчезли особенности в управлении Калмыкией.
***
Изучению истории преобразований калмыцкой системы управления способствовали документы, созданные в ходе функционирования органов управления калмыцким народом XIX в. и находящиеся на хранении в Национальном архиве Республики Калмыкия. Эти документы стали составной частью следующих архивных фондов:
– И-2 «Комиссия калмыцких дел» (1825–1836 гг.), в фонде числится 111 ед. хр.;
– И-3 «Совет Астраханского калмыцкого управления» (1836– 1849 гг.), в фонде числится 389 ед. хр.;
– И-6 «Ордынское отделение Астраханской палаты государственных имуществ (1832–1881 гг.), в фонде числится 189 ед. хр.;
– И-9 «Управление калмыцким народом» (1836–1917 гг.), в фонде числится 6 179 ед. хр.
Из предисловий к описям фондов можно почерпнуть сведения об истории фондообразователей, структуре организаций, функциях структурных подразделений, видовом составе документов. Наиболее полный состав документов представлен в фонде Управления калмыцким народом, хотя, как и другие архивные фонды, он потерял значительную часть документов в годы гражданской и Великой Отечественной войн, в период проведения макулатурных кампаний.
По сохранившимся архивным документам исследователи изучали историю Калмыкии, их обобщающие данные вошли в фундаментальные научные труды, монографии, научные статьи. Наиболее изучен фонд И-9 «Управление калмыцким народом». Остальные три архивных фонда (И-2, И-3, И-6) слабо изучены и рассматривались в аспекте истории государственных учреждений, развития чиновничества, некоторых отраслей народного хозяйства (здравоохранения, образования, землеустройства, рыболовства и др.), судопроизводства, религии.
Исследование состава и содержания вышеперечисленных архивных фондов, их анализ позволили проследить некоторые процессы интеграции калмыцкого общества в общероссийское пространство.
Среди архивных документов особое место занимают дела, связанные с вопросами землеустройства Калмыцкой степи. Административные границы калмыцких кочевий и их юридический статус были впервые установлены указом от 19 мая 1806 г. «О назначении земель калмыкам и другим кочующим народам в губерниях Астраханской и Кавказской», который стал первым законодательным актом в этой области. Данным правовым документом за калмыцким народом было закреплено исключительное право использования земли для проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности. Также государство приняло на себя юридические обязательство по их охране17. Однако эти меры не могли уберечь калмыцкие земли от вторжения крестьян и захвата территорий18, а также набегов других народов, проживавших в соседних регионах. Так, например, в самих заголовках архивных дел «Материалы спора крестьян села Безопасного Ставропольского округа и калмыков за участки земли в Большедербетовском улусе между реками Большая и Малая Кегульта и в районе Воровской балки (документы по межеванию земли, журналы заседаний, донесения, рапорты)»19, «План селения Цацы и переписка с гражданским губернатором о мероприятии по охране калмыцких улусов»20, «Дело об отводе земельного участка из Калмыцкой степи к рыбным промыслам»21, «Переписка с гражданским губернатором о мерах борьбы с грабежом в калмыцких улусах»22, «О похищении у Хошеутовских калмыков трухменами 75 лошадей, 25 верблюдов и 24 голов рогатого скота»23 и в других делах обозначены проблемы, связанные с землевладением и землепользованием. Также в рассматриваемых архивных фондах сохранилась довольно обширная переписка по вопросам охраны калмыцких улу-со24, об аренде земли25, отводе земель под строительство почтовых станций26, молитвенных домов для казаков27 и других объектов.
Известно, что в целях урегулирования вопроса о незаконном захвате и пользовании калмыцких земель чужаками, а также недопущении прецедентов дальнейших посягательств на них в «Положении об управлении калмыцким народом» 1834 г. была прописана отдельная глава, которая так и называлась «О мерах к отвращению самовольных водворений в улусах»28.
Архивные документы, содержащие сведения о строительстве деревянных и глинобитных домов в Калмыцкой степи 29 свидетель- ствуют о государственной политике российского государства в решении вопроса обоседлении калмыков и не менее значимой задачи – реализации госпрограммы по заселению дорог путем переселения крестьян и их расселения вдоль трактов. Исследование показало, что при строительстве домов привлекались крестьяне Пензенской, Нижегородской, Владимирской и других губерний30. Их быт, совместная работа должны были послужить образцом для калмыков, их переходу на оседлый или хотя бы на полуоседлый образ жизни.
Не менее важным являлся вопрос об отношении калмыцкой знати к российскому дворянству, который можно рассмотреть на примере прошения калмыцкого владельца Э. Ц. Кичикова о награждении его бронзовой медалью на Владимирской ленте за предоставление 250 подвластных калмыков для участия в Отечественной войне 1812 г.31. Прошение было отклонено на том основании, что не было официальных документов «считать калмыцких владельцев в числе дворян»32. Однако калмыцкие владельцы Дондуковы, принявшие христианскую веру, имели княжеский титул, и самые знатные калмыцкие владельцы также вошли в состав российского дворянства.
Российские награды калмыки получали не только за боевые заслуги, за пожертвования, но и в области здравоохранения. Так, например, Джалов, эмчи-гелюнг Эркетеневского улуса, лекарь из числа священнослужителей, за особый вклад в борьбу с заразным заболеванием получил серебряную медаль «За прививание оспы». По документам прослеживается путь, который прошел эмчи Джалов до получения заслуженной награды. Сначала он прошел обучение по привитию оспы у русского казенного лекаря, затем, получив аттестат, он направился в улусы и привил 1408 человек, которые благополучно излечились33. Интересен тот факт, что Джалов – самовыдвиженец и его обращение о награждении долгое время рассматривалось в различных инстанциях: Оспенном комитете, Вольном экономическом обществе, губернскими органами управления, Комиссией калмыцких дел и в конечном итоге эмчи Джалов был награжден серебряной медалью, которую носили в петлице на зеленой ленте. Такой же наградой был награжден гелюнг Болдан Минганов, подвластный Церен Убуши, владельца Харахусо-Эрдениевского улуса34.
Особо следует остановиться на вопросе о приведении социальной структуры калмыцкого народа в соответствие с общероссийской сословной системой, проводимой российской администрацией, и в соответствии с разделом «Особенные права нойонов, зайсангов и лам» Положения 1847 г.
В фонде Ордынского отделения Астраханской палаты государственных имуществ имеются архивные дела, содержащие сведения об изменении в государственном устройстве Калмыцкой степи. Так, например, изменился правовой статус зайсангов, их низведению до статуса управляющих аймаком, необходимости подтверждения ими наследственных и иных прав на владение улусами и аймаками. В фонде представлены дела об утверждении в наследственном праве нойонов над улусами; в звании родовых, аймачных и безаймачных зайсангов35.
Формирование новых социальных категорий, таких как безу-лусных нойонов, аймачных зайсангов (владеющие аймаками и получивших права потомственного почетного гражданина), безаймач-ных зайсангов (наделенные правом личного почетного гражданина), отражало продолжающийся процесс адаптации калмыцкого общества к российской сословной системе36.
В архивных делах имеются сведения о появлении наемного труда в Калмыцкой степи и зарождении слоя наемных рабочих, главным образом речь идет о традиционном для калмыков отходничестве на рыбные промыслы37.
На основе изучения состава и содержания архивных фондов органов управления калмыцким народом XIX в. можно заключить, что процесс интеграции калмыцкого общества в общероссийскую систему управления был постепенным и затронул все сферы жизнедеятельности калмыцкого народа. Через изучение истории калмыцкого народа, сословной структуры калмыцкого общества, хозяйственного и бытового устройства калмыков, гибкой политики в отношении религиозных верований, принятие ряда законодательных актов по управлению Калмыцкой степью шло постепенное вливание калмыцкого народа в российское государство.