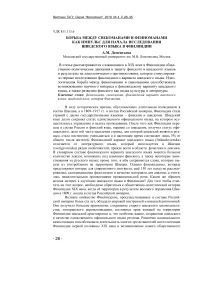Борьба между свекоманами и фенноманами как импульс для начала исследования шведского языка в Финляндии
Автор: Дементьева Александра Максимовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сложившиеся в XIX веке в Финляндии общественно-политические движения в защиту финского и шведского языков и результаты их идеологического противостояния, которое стимулировало первые исследования финляндского варианта шведского языка. Идеологическая борьба между фенноманами и свекоманами способствовала возникновению научного интереса к финляндскому варианту шведского языка, а также развитию финского как языка культуры и литературы.
Фенномания, свекомания, финляндский вариант шведского языка, шведский язык, история финляндии
Короткий адрес: https://sciup.org/146121953
IDR: 146121953 | УДК: 811.113.6
Текст научной статьи Борьба между свекоманами и фенноманами как импульс для начала исследования шведского языка в Финляндии
В силу исторических причин, обусловленных длительным вхождением в состав Швеции, а в 1809–1917 гг. в состав Российской империи, Финляндия стала страной с двумя государственными языками – финским и шведским. Шведский язык долго сохранял статус единственного официального языка, на котором осуществлялось управление и велось преподавание. После того как Финляндия перешла в состав России и финский язык, наравне со шведским, получил статус официального, доля той части населения страны, для которой шведский является родным, стала постепенно уменьшаться и в настоящее время составляет лишь 5% от общего числа жителей. Финляндский вариант шведского языка (finlandssvenska) отличается от литературного языка, который используется в Швеции (sverigesvenska) рядом особенностей, прежде всего в области фонетики и лексики. В словарном составе финляндского варианта шведского языка имеется большое количество лексем, возникших под влиянием финского, а также некоторые заимствования из русского языка; кроме того, в нём сохраняются слова, которые вышли из употребления на территории Швеции. Однако финляндизмы, которые представляют интерес для современного лингвиста, ещё 150 лет назад не рассматривались скандинавскими филологами в качестве материала для анализа, а считались нежелательными проявлениями провинциальной речи. Каким же образом возник интерес к изучению шведского языка в Финляндии? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к общественно-политической истории Финляндии XIX века, когда её территория в результате военного поражения Швеции в 1809 г. вошла в состав Российской империи.
Великое княжество Финляндское, просуществовавшее в составе Российской империи более ста лет, обладало широкой внутренней и внешней автономией. Оно получило большие привилегии: сохранение старого шведского законодательства, лютеранского вероисповедания, сословных прав жившей на территории Финляндии шведской аристократии и, что особенно важно, сохранение шведского в качестве единственного официального языка региона. Развитию национального самосознания способствовала деятельность многих представителей интеллигенции Финляндии первой половины XIX века и возникновение нового общественного движения – фенномании, представителей которого стали называть фенноманами. Оно зародилось в университетских кругах города Турку (по-шведски Обу) и провозглашало своей целью сохранение и развитие финской культуры и финского языка. Вначале это было далёкое от политических дискуссий национальнокультурное движение, возникшее под влиянием идей романтизма, охвативших в то время страны Западной Европы и Россию. Ранними представителями фенноманов были писатель и журналист А.И. Арвидссон, писатель Э.Г. Эрстрём, профессор университета Турку Ф. Бергбум, которые в своих произведениях пробуждали интерес к финскому языку и народной культуре страны. Отчасти благодаря их усилиям в 1826 г. в университете Турку, где преподавание велось на латинском и шведском языках, была открыта должность лектора финского языка. Однако первый этап движения фенноманов не выходил за рамки узких университетских кругов и не вызвал оживлённой общественной дискуссии.
Значительно более заметную роль для развития финской культуры и идей, провозглашённых фенноманами, сыграло творчество Юхана Людвига Рунеберга (1804–1877), выдающегося национального поэта Финляндии. В своей поэзии Ру-неберг описывал природу Финляндии, традиционный финский образ жизни простого народа и не раз обращался к военно-патриотической теме. Самым ярким произведением на эту тему представляется проникнутая духом патриотизма поэма «Рассказы прапорщика Столя» (1848, 1860) о русско-шведской войне 1808–1809 гг., в которой он изобразил бедный и покорный судьбе финский народ храбрым и преданным родине [10]. Прологом к поэме Рунеберга является стихотворение «Наш край» (швед. Vart land , фин. Maamme ), которое стало национальным гимном Финляндии. «Рассказы прапорщика Столя» сыграли важную роль в развитии самосознания финнов. В исторически сложные для Финляндии периоды, например, во время советско-финской войны 1939–1940 гг., текст поэмы бесплатно раздавали народу [10]. При этом Рунеберг создавал свои глубоко патриотические произведения на родном для него шведском языке, что не помешало ему уже при жизни получить широкое признание в Финляндии, которая была его родиной. Это говорит о том, что шведский язык не воспринимался в финляндском обществе как чужой, а являлся неотъемлемой частью культуры Финляндии.
Творчество Рунеберга сыграло большую роль в становлении и развитии движения фенноманов. Исследователи отмечают, что «ранний этап национального движения восторженно воспринял воспетые Рунебергом патриотические идеалы и народные характеры крестьян и рыбаков» [1: 11]. Его произведения оказали влияние на его друга, собирателя финского фольклора и врача Элиаса Лённрута (1802– 1884), деятельность которого стала особенно важной для развития культуры всей страны. Э. Лённрут наиболее знаменит тем, что собрал и издал карело-финский эпос «Калевала» (1835–1836) и сборник финской народной поэзии «Кантелетар» (1840), что стало итогом его фольклорных экспедиций на восток Финляндии и в Карелию. Кроме того, он внёс большой вклад в развитие финского литературного языка – составил несколько словарей, развивал терминологию в области ботаники и медицины, издавал на финском языке журнал «Пчела», а также создал много новых слов культуры, вошедших в финский литературный язык, таких как kirjallisuus 'литература', itsenainen 'независимый', tasavalta 'республика' [11].
Наглядным примером, свидетельствующим о духовном единстве народа Финляндии, является деятельность Сакриаса Топелиуса (1818–1898), финляндского писателя и исследователя финно-угорского фольклора, который также создавал свои произведения только на шведском языке. Он прославился как автор сказок, созданных на основе карело-финских и саамских преданий, и за это в Финляндии его ласково называют по-фински словом satusetä 'дядюшка-сказочник'.
Существенную роль для популяризации идей фенноманов сыграли научные работы и лекции знаменитого исследователя финно-угорских языков, основоположника сравнительной уралистики, профессора университета Хельсинки М.А. Кастрена (1813–1852), который, как и Рунеберг, происходил из семьи финляндских шведов.
Говоря о культурной и общественной деятельности фенноманов, необходимо также назвать выдающегося финского государственного деятеля Юхана Вильгельма Снелльмана (1806–1881), способствовавшего экономическому и культурному развитию Финляндии. Став в 1863 году сенатором, Снелльман добился того, чтобы финский язык стал языком делопроизводства наравне со шведским, внеся тем самым большой вклад в развитие региона. Важную роль в этом процессе сыграла философская концепция Снелльмана о том, что язык является основным инструментом формирования нации. Он считал, что для формирования финляндской нации необходимо повышать статус финского языка в качестве объединяющего народ фактора, поскольку для большей части населения страны он был родным языком. Поэтому шведский язык, по мнению Снелльмана, в Финляндии должен был со временем выйти из употребления, о чем он сообщил в 1860 г. в одном из своих писем С. Топелиусу [14].
Деятельность Ю.В. Снелльмана и других фенноманов способствовала тому, что в 1858 г. в городе Ювяскюля был открыт первый в Финляндии лицей, в котором велось преподавание на финском языке; со временем такие учебные заведения появились и в других регионах княжества. Несомненно, что все эти важнейшие нововведения стали возможными потому, что в развитии финского языка в Финляндском княжестве была заинтересована высшая российская власть, представители которой видели в либеральных реформах возможность отдалить Финляндию от Швеции и продемонстрировать свою лояльность по отношению к финскому языку. По свидетельству историков, знаком «высочайшего расположения к простому люду, говорившему на финском языке, стало посещение императором Финляндии, в частности, местечка Парола, летом 1863 г.» [3: 79]. Государственные деятели Финляндии понимали всю значимость расположения Александра II и, в свою очередь, занимали пророссийскую позицию в вопросах международной политики.
В середине XIX в. идеи фенноманов начали активно распространяться по всей Финляндии; некоторые из сторонников этого движения осознанно переходили с родного на финский язык уже будучи во взрослом возрасте. Так, житель Выборга, исследователь финского фольклора Юлиус Крон, родным языком которого был немецкий, стал говорить в семье исключительно по-фински после женитьбы на Э.С. Нюберг, родным языком которой был шведский, убедив жену также перейти на финский [16: 205]. Вдохновившись идеями фенноманов, многие финляндские шведы стали «переводить» свои имена и фамилии на финский язык [15]. Так, например, поступил писатель Алексис Стенвалль, гораздо более известный в Финляндии под финским именем Алексис Киви (швед. sten , фин. kivi 'камень').
В результате всех этих процессов в Финляндии начала формироваться финноязычная интеллигенция, а финский стал активно развиваться как язык культуры. Однако с усилением позиций финского языка положение шведского стало ухудшаться. Отчасти это было связано с тем, что шведоязычное население всегда составляло в Финляндии меньшинство – в конце XIX в. количество жителей стра- ны, для которых родным был шведский язык, составляло всего 13% от общего числа населения Финляндии [8]. Однако главной причиной ослабления позиций шведского было проникновение финского языка в те сферы общественной жизни, где ранее он не использовался, и активная поддержка финского языка российской властью, стремившейся ослабить положение шведского языка в Финляндии по политическим причинам. Поэтому уже в 1860-е годы начались первые общественные дебаты между сторонниками финского и шведского языков, которые касались не только языковой ситуации в Финляндии, но и политических вопросов. В 1870 г. защитники шведского языка образовали «Шведскую партию» (швед. Svenska partiet) с либеральным уклоном, в противовес уже существовавшей «Финской партии» (фин. Suomalainen puolue), созданной в 1863 г. на основе идеологии феннома-нов. Таким образом, повышение статуса финского или шведского языка в Финляндии второй половины XIX в. стало ассоциироваться с выражением определённых политических взглядов.
Одновременно с появлением «Шведской партии» возникло общественнополитическим движение свекоманов (шведоманов), оформившееся в 1870-х гг., идеологической платформой которого стал шведоязычный журнал «Викинг», выходивший с 1870 по 1874 гг. В то же время идеи фенноманов излагались в финноязычной газете «Суометар» (1847–1866), а позднее в более радикальной «Ууси Суоми» (1869–1918).
С журналом «Викинг» тесно связано имя основного идеолога свекоманов, профессора шведского языка и литературы в университете Хельсинки Акселя Улофа Фрейденталя (1836–1911). Фрейденталь исходил из того, что финляндские шведы имеют такое же, как и финны, право развивать и защищать свое национальное самосознание. По мнению Фрейденталя, а вслед за ним и других свекоманов, Финляндия была призвана отстаивать западные традиции и ценности, унаследованные во времена шведского владычества, от натиска восточных, т.е. российских порядков [16: 207]. Таким образом, свекоманы «вели борьбу на два фронта – против имперских амбиций России и против собственных фенноманов» [2]. Фрейден-таль, как и некоторые другие свекоманы, увлекался антинаучной расовой теорией и полагал, что шведский народ, принадлежащий к германской расе, априори превосходит финнов по культуре и общему развитию. Такие идеи не могли найти широкого отклика в Финляндии.
Между тем борьба между свекоманами и фенноманами разворачивалась не только на страницах печатных изданий. Так, сенатор Казимир фон Котен (1807– 1880), бывший представителем одного из самых знатных дворянских родов Финляндии и сделавший успешную карьеру в молодом возрасте при поддержке российской и финляндской знати, стал одним из активных противников фенномании. Он способствовал закрытию газеты Снелльмана «Сайма», в которой содержалась критика его деятельности, после чего Снелльман и фон Котен оставались врагами всю жизнь [14]. В 1870 г. фон Котен был назначен на должность председателя Управления школьного образования Финляндии (фин. kouluylihallitus ) и оставался на этом посту до 1873 г. Он боролся против идеи преподавания на финском языке и приложил много усилий для того, чтобы ослабить положение финского языка, однако из-за многочисленных разногласий с коллегами был вынужден вскоре подать в отставку. Только после отставки влиятельного фон Котена образование на финском языке стало действительно развиваться.
Борьба за сохранение статуса шведского языка в Финляндии привела све-команов к идее необходимости описания и исследования финляндского варианта шведского языка. Одним из основоположников изучения шведского языка в Финляндии стал А.У. Фрейденталь, который в своих основных работах описал восточношведские диалекты в Финляндии и Эстонии. Его первое исследование было посвящено фонетическим особенностям диалектов провинции Уусимаа (1866); в дальнейшем он продолжил изучать эту группу диалектов, в том числе с точки зрения звуковых соответствий в других диалектах шведского языка. Кроме того, Фрейденталь со своими учениками много путешествовал по Финляндии, собирая фольклор финляндских шведов, а также различный языковой материал для изучения восточношведских диалектов. Таким образом, важнейшим достижением Фрейденталя является то, что он одним из первых обратил внимание исследователей на особенности шведского языка в Финляндии. Примерно в то же время другие лингвисты начали изучать фонетические и морфологические особенности шведских диалектов региона Турку [6], а также на архаичный изолированный диалект муниципалитета Чёкар на Аландских островах [9]. К концу XIX в. им удалось описать фонетические особенности различных шведских диалектов Финляндии. В 1894 г. ученик А.О. Фрейденталя Оскар Фредрик Хультман издал книгу «Восточношведские диалекты», в которой обобщил накопленные исследователями сведения по фонетике и обозначил географические границы диалектов Финляндии и Эстонии, разделив их на три основные группы - севернофинляндскую, южнофинляндскую и балтийскую [7]. По результатам исследования О.Ф. Хультмана к севернофинляндским диалектам были отнесены диалекты Остроботнии, Сатакунты, Аландских островов и прихода Хоутшэр в юго-западной Финляндии (сейчас часть города Парайнен), а к южнофинляндским диалектам - говоры провинции Уусимаа и Варсинайс-Суоми (за исключением Хоутшэра). В балтийскую группу вошли диалекты материковой Эстонии и острова Рухну, а также наречие села Старошведского (Украина, Херсонская область). При установлении диалектных границ Хультман опирался на звуковые соответствия в диалектах, подробно описав фонетические особенности каждого из местных наречий Финляндии и Эстонии. Таким образом, работа Хультмана стала первым обобщающим исследованием в области фонетики и фонологии восточношведских диалектов.
Крупнейшим исследователем финляндского варианта шведского языка в тот период стал филолог Хуго Бергрот (1866–1937), разработавший научные принципы, на которые до сих пор опираются специалисты, занимающиеся нормированием финляндского варианта шведского языка. Его позиция нашла выражение в нескольких работах, главной из которых является книга «Финляндский шведский. Как избежать провинциализмов в устной и письменной речи», изданная в Хельсинки в 1917 году [5]. Как и свекоманы, Бергрот был серьёзно озабочен проблемой сохранения шведского языка в Финляндии, который испытывал сильное финское влияние. По мысли Бергрота, для сохранения шведского языка он должен быть по возможности очищен от различных проявлений финского влияния. С точки зрения свекоманов, именно такой «правильный» шведский язык объединял Финляндию с Швецией и её культурными ценностями [4]. Бергрот преподавал шведский язык в Хельсинкском университете будущим юристам и учителям. Провинциализмы в речи студентов и задачи обучения литературному шведскому языку, стоявшие перед ним как преподавателем, дали обширный материал для размышлений и исследований. Большое влияние на Бергрота оказала переписка с шведским языковедом Адольфом Нуреном, который, вероятно, обратил внимание на особенности финляндского варианта шведского языка, поскольку в письмах Бергрота встречалось немало финляндизмов [12].
Книга Бергрота «Финляндский шведский. Как избежать провинциализмов в устной и письменной речи» – это первая работа, целью которой являлось не только описание финляндизмов, но и нормирование шведского языка в Финляндии. Само её название указывает на позицию автора, считавшего финляндизмы провинциализмами, которых следует избегать в речи. Эта книга окончательно определила основную линию в исследовании финляндизмов вплоть до современности и легла в основу современных принципов языкового нормирования финляндского варианта шведского языка, который не должен отличаться от литературной нормы, иначе ему грозит исчезновение под натиском финского.
Вместе с тем следует отметить, что основное исследование Х. Бергрота представляет научный интерес не только с точки зрения языкового нормирования. В книге содержится подробное описание особенностей финляндского варианта шведского языка в области фонетики, морфологии, синтаксиса и лексического состава. Большинство языковых особенностей, отмеченных почти сто лет назад, до сих пор бытует в шведском языке Финляндии. Х. Бергрот подробно описал словарный состав, распределив характерную для финляндского варианта лексику по нескольким тематическим группам – названия животных и растений, зданий и строений, погодных явлений, географические названия и названия одежды, предметов мебели и т.д.
Для слов, встречающихся только в финляндском варианте, Х. Бергрот приводит их эквиваленты из литературного шведского языка, например: финл. шв. gamlorna ‘родители' – лит. шв. föräldrarna, финл. шв. kudda 'коровка' – лит. шв. kossa, финл. шв. syerska 'швея' – лит. шв. sömmerska . В тех случаях, когда в шведском литературном языке нет прямого соответствия финляндской лексеме, Бергрот особо отмечает этот факт и подробно описывает значение слова, а также приводит его синонимы, например: «Чисто финляндским словом, не имеющим аналога в литературном языке, является varmbröd (varmbulle), используемое для описания свежеиспечённого хлеба, который только что достали из печи, особенно если его посылают другу или соседу. Лит. шв.: ett nygräddat bröd » [5: 316].
Х. Бергрот выделял также заимствованные слова и указывал на их происхождение. Основным источником заимствований является финский язык; однако в книге Бергрота приводятся также слова, заимствованные из русского, немецкого и французского языков. Характерно, что он призывает избегать употребления в речи финских заимствований, в то время как лексемы французского и немецкого происхождения являются, по его мнению, вполне приемлемыми. В некоторых случаях Бергрот приводит этимологию слов, имевшихся в древнешведском языке, которые сохранились только в финляндском варианте, например, финл. шв. åga/aga ‘беспокойство' от древнешв. aghe 'ужас' [5: 326]. Кроме того, в книге имеется отдельный раздел, в котором рассматриваются лексемы, существующие и в литературном шведском, но имеющие в финляндском варианте другие значения.
Бергрот детально описал свыше 1400 лексических финляндизмов, которые до сих пор являются употребительными на всей территории страны. В тех случаях, когда слово имеет ярко выраженный диалектный характер, Бергрот отмечал это, однако большинство приведённых им слов не имеет таких помет. Работа Х. Бер-грота представляет ценность также потому, что она является первым исследованием, в котором выделены лексические особенности не отдельных местных говоров, а большинства диалектов Финляндии. Работы Бергрота положили начало нормативному описанию финляндского варианта шведского языка. Вместе с тем они явились закономерным итогом идеологии и практической деятельности свекома-нов.
Таким образом, идеологическое противостояние между фенноманами и свекоманами, с одной стороны, способствовало повышению статуса финского языка и развитию финской народной культуры, а с другой, положило начало изучению финляндского варианта шведского языка и способствовало возникновению интереса к культуре носителей этих языков. Соперничество этих движений положительно повлияло на развитие финского общества и стало основой для формирования единой финляндской нации, в которой как финский, так и шведский язык являются государственными и обладают равными правами.
THE STRUGGLE BETWEEN FENNOMAN
AND SVECOMAN MOVEMENTS AS AN IMPULSE TO THE START
Список литературы Борьба между свекоманами и фенноманами как импульс для начала исследования шведского языка в Финляндии
- Братчикова Н.С. Скромный гений финляндской литературы Юхан Людвиг Рунеберг//Вестник угроведения. 2015. № 2 (21). C. 7-16.
- Новикова И. И. Великое княжество Финляндское в имперской политике России//Имперский строй России в региональном измерении (XIX -начало XX века). М.: МОНФ, 1997. С. 130-149.
- Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 1809-2009. М.: Весь Мир, 2010. 472 с.
- af Hallstrom-Reijonen, Ch. Finlandssvensk sprakvard -en resultatrik ideologi?//Spraknormering: -i tide og utide? 2010. S.157-170.
- Bergroth H. Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. Helsingfors: Holger Schildts forlag, 1992. 366 s.
- Fagerlund L. W. Anteckningar om Korpo och Houtskars socknar. Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten, 1878. 334 s.
- Hultman O.F. De ostsvenska dialekterna. Finlandska bidrag till svensk sprak-och folklifsforskning. Helsingfors, 1894. 345 s.
- Kansalliskielten historiallinen, kulttuurinen ja sosiologinen tausta. Nationalsprakens historiska, kulturella och sociologiska bakgrund. //Suomen oikeusministerio. 2000. URL: http://www.kieliverkosto.fi/dokumentti/kansalliskielten-historiallinen-kulttuurinen-ja-sosiologinen-tausta-nationalsprakens-historiska-kulturella-och-sociologiska-bakgrund/(accessed at 02.10.2016)
- Karsten A. Kokarsmalet. Ljud-och formlara. Helsingfors: SvLm 12:3, 1891. 151 s.
- Klinge M. Runeberg, Johan Ludvig //Kansallisbiografia. URL: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2846/(accessed at 02.10.2016)
- Majamaa R. Elias Lonnrot. //SKS-tietopaketti. URL: http://neba.finlit.fi/tietopalvelu/elias/el_elama.html (accessed at 02.10.2016)
- Reuter, Mikael. BERGROTH, Hugo //Biografiskt lexikon for Finland 2. Ryska tiden. 2007. URL: http://www.blf.fi/artikel.php?id=9525 (accessed at 02.10.2016)
- Saukkonen, P. The Finnish Paradox: Language and Politics in Finland//Recode Working Paper Series. 2012. № 5. Pp. 1-11.
- Savolainen R. von KOTHEN, Casimir. Senator, generallojtnant, friherre //Biografiskt lexikon for Finland 2. Ryska tiden. 2007. URL: http://www.blf.fi/artikel.php?id=3512 (accessed at 02.10.2016)
- Teppo, H. Sukunimien suomalaistamisesta. Hieman historiikkia ja periaatteita//Suomalainen Suomi. 1942. № 3. S. 105-113.
- Vilkko M. Suomi on ruotsalainen. Helsinki: Schildts & Soderstroms, 2014. 321 s.