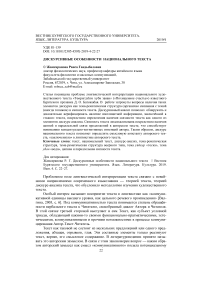Дискурсивные особенности национального текста
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме лингвистической интерпретации национального художественного текста «Төөригдэhэн хуби заяан» («Похищенное счастье») известного бурятского прозаика Д. О. Батожабая. В работе затронуты вопросы наличия таких элементов дискурса как тема-рематическая структура (органично связанная с темой (иногда топиком) и связности текста. Дискурсивный анализ позволил обнаружить и доказательно верифицировать наличие имплицитной информации, заключённой в«ткани» текста, посредством определения наличия связности текста как одного из элементов дискурс-анализа. Связность текста лексикализована посредством наличия цепной и параллельной связи предложений в авторском тексте, что способствует пониманию концептуально-когнитивных интенций автора. Таким образом, дискурс национального текста позволяет определить смысловую константу авторского текста, «заключенную» в лингвистике авторского текста.
Текст, национальный текст, дискурс-анализ, тема-рематическая структура, тема-рематическая структура веерного типа, тема уйдхар "тоска", тема уhан "вода", цепная и параллельная связности текста, theme уйдхар "melancholy", theme уhан "water"
Короткий адрес: https://sciup.org/148316567
IDR: 148316567 | УДК: 81-139 | DOI: 10.18101/2305-459X-2019-4-22-27
Текст научной статьи Дискурсивные особенности национального текста
Жамсаранова Р. Г. Дискурсивные особенности национального текста // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2019. Вып. 4. С. 22‒27.
Проблемное поле лингвистической интерпретации текста связано с новейшими направлениями современного языкознания — теорией текста, теорией дискурс-анализа текста, что обусловило методологию изучения художественного текста.
Особый интерес вызывает восприятие текста в лингвистике как «коммуникативной единицы высшего уровня, как цельного речевого произведения» [Вал-гина, 2003, с. 6]. Под коммуникативностью текста понимается степень обращённости вербального текста к Читателю, своеобразный диалог Автора и Читателя. В этой связке третьей стороной выступает и сам Текст, как субъект условной триады, обладающий какими-то своими функционально-прагматическими, эстетическими, коммуникативными и прочими возможностями в процессе коммуни-цирования Автор-Текст-Читатель.
Текст как таковой не состоит из нескольких предложений или одного предложения, абзацев, отрывков, глав. Эти составные элементы только реализуют текст, вернее, его смысловое содержание. В литературоведении принято называть это авторским замыслом. В связи с этим закономерен вопрос — каким образом авторский замысел как смысл «коммуникативного» посыла потенциальному 22
Читателю может стать доступным и очевидным последнему? И, по-видимому, в этой проекции важно выяснить функции именно текста, т. к. общение автора с читателем и происходит, и возможно только посредством текста.
Ведь термин текст понимается как некое сплетение интенций, посылов, авторских задумок и помыслов в некую «ткань» или соединение фактов, событий, инцидентов, событий, имён и персоналий. В этом смысле текст представляет собой «объединённую по смыслу последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связанность и цельность» [Валгиина, 2003, с. 9].
Последовательно связанные между собой, как бы «сцепленные» знаковые единицы, вербализованные разными языковыми единицами, создают в итоге цельное литературное произведение или художественный текст. Эта последовательность «сплетённых» между собою дополнительными внутренними связями (или «сцепками») представляет собой, по мнению Н. С. Валгиной, «коммуникативную единицу высшего уровня, поскольку она обладает качеством смысловой завершённости как цельного литературного произведения, т. е. законченное информационное и структурное целое» [Валгина, 2003, с. 9].
Наиболее отчётливо обнаруживается коммуникативная природа текста при изучении его с позиций дискурс-анализа художественного текста. Причем «текст и дискурс существуют в совокупности в рамках реального речевого произведения» [Наер, 2006, с. 7‒15].
Другими словами, «интерпретируя вербальные структуры, образующие текст, мы получаем доступ к концептуальным и эмоциональным сферам дискурса» [см. Наер, 2006, с. 7‒15], что позволяет лингвисту выявить и описать интенциональный аспект авторского текста посредством дискурса или дискурс-анализа художественного текста. В дискурсе отчётливо проявляется личность адресанта, его позиции, эмоции, оценки, намерения. В тексте эти параметры вербализуются. Дискурс ориентирован на концептуальную сферу речевой деятельности, в то время как текст — на вербальную» [Сердюк, 2012, с. 75].
Добавим, что именно коммуникативность текста «заключает» когнитивноэмоциональную сферу замысла Автора в виде некоего смыслового посыла Читателю посредством самого же Текста.
Дискурс многомерен, многоаспектен, состоит из многих элементов. Различают макро- и микроструктуры дискурса. Ключевыми элементами являются тема и рема. При этом тему как основную смысловую константу текстового произведения возможно определить посредством дискурс-анализа.
Для иллюстрации обратимся к тексту романа бурятского писателя Д. О. Ба-тожабая «Похищенное счастье» («Төөригдэhэн хуби заяан»).
Чувства, которые испытывает главный герой романа Аламжи по отношению и к покинутой родине, и к покинутой семье, описаны Д. О. Батожабаем настолько реалистично, настолько эмоционально и художественно, что невольно возникает вопрос о том, каков же набор тех лингвистических авторских средств, посредством которых Батожабаю удаётся создать такой текст, который по степени своего воздействия на читающего позволяет заслуженно считать его выдающимся бурятским классиком-прозаиком [Жамсаранова, 2018, с. 92‒94].
Остановимся на таком элементе как наличие связности текста. Известно, что одна из главных составляющих дискурс-анализа — связность текста — проявля- 23
ется в том, что каждое последующее предложение возникает на основе смысла предыдущего, вбирая при этом в себя ту или иную его часть. Принято именовать ту информацию, которая повторяется в последующем предложении из предыдущего, как «данное», а то, что сообщается дополнительно, — «новое», которое выделяется логическим ударением и стоит в конце предложения. Роль «нового» — в развитии мысли в тексте, роль «данного» заключается в связи предложений между собой.
Для связи предложений в тексте, «данного» и «нового», используются два способа связи: цепная связь и параллельная связь. Эти типы связности текста в парадигме дискурс-анализа способны выявить интенции авторского замысла, по-другому, ту информацию, которую в теории дискурса понимают как тема.
Так, при дискурс-анализе текста романа Төөригдэhэн хуби заяан («Похищенное счастье») выявлено, что тема тоска передаётся словами уйдхар и гуниг , имеющие значение «печаль, грусть, тоска, уныние» [Бурятско-русский словарь, 1973, c. 160]. При этом автор использует в качестве синонимов ключевого слова тоска — уйдхар и такие слова как гуниг , гашуудал — «печаль, грусть, скорбь, тоска, уныние», что позволяет определить организацию текста как цепную посредством синонимических повторов основной темы. Для героя романа Аламжи тоска по Родине, семье и любовная тоска тесно переплелись, выражают единое чувство уже безысходной печали (уже не грусти, и не тоски), впечатляя читателя. Автору романа удалось передать всю невысказанную боль разлучённой жизнью молодой пары посредством подбора не только синонимов слова тоска , символизирующей бренный путь Аламжи, а также слов сэдьхэл «душа» и үбшэн «боль» т. е. тоска — это не грусть, не скорбь, не уныние и даже не печаль, а душевная боль, раздирающая сердце Аламжи. Читатель, в свою очередь, воспринимает текст наиболее ярко и глубоко за счёт построения тема-рематической связности текста в отдельных сюжетных линиях как верифицированный аспект темы тоска [Жамсаранова, 2018, с. 94].
Помимо цепной связи предложений (о тоске героя) в тексте романа, где тема тоска выражена синонимами, наблюдается наличие и параллельной связи, когда предложения не зависят непосредственно друг от друга, но обычно построены вокруг какого-нибудь центрального тезиса или образа. Каждое из них выглядит самостоятельным по содержанию, но при этом является частью какого-то общего перечня, сопоставления или противопоставления. Примером служат предложения, смысл которых объединён одной темой, темой воды . «Эндэ hаяхан нарин зурамаар урдажа байhан хадын хунды дүүрэн уhатай боложо байна. Хадаhаа ур-даhан уhан хэдыхэн сагсоо уерлэжэ, аяншадай амархаа тогтоhон газар уhанда абтахаа байна» [Батожабай, 1966, с. 158] / Ущелье, на дне которого ещё недавно чуть заметной ленточкой пробегал ручек, теперь наполнялось водой. Горный поток с каждой минутой подступал к площадке, где путники с лошадьми остановились на отдых [Похищенное счастье, 1967]. «Уры бухы дайда дүүргэжэ, харьялан урдажа байна. Уhан гансаш дээрэhээ бэшэ, харин хадын боориhоо урдажа, бухы дайдын модо шулуу угаажа, ундэhэтэй модонууд урдаа» / (Вода стремительно разливалась во все стороны. Вода прибывала не только из верховий. Она низвергалась с горных склонов, увлекая за собой камни; обгоняя друг друга, плыли вырванные с корнем деревья). «Эндэ hаяхан нарин зурамаар урдажа байhан хадын хунды дүүрэн уhатай боложо байна. Хадаhаа урдаhан уhан хэдыхэн сагсоо 24
уерлэжэ, аяншадай амархаа тогтоhон газар уhанда абтахаа байна» / «Вода стремительно разливалась во все стороны. Вода прибывала не только из верховий. Она низвергалась с горных склонов, увлекая за собой камни; обгоняя друг друга, плыли вырванные с корнем деревья». «Ехэ уhан дутэлэжэл байба, хадын шулуун хэмхэржэ, бурьялан ехэ урыруу унана, мургэлдэжэ урдана. Аяншадай байхан га-зарта ойро ерьюулгэ болошобо» / «Вода становилась все яростнее, камни со скал падали в водоворот, сталкиваясь и разбиваясь друг об друга в этом водовороте, который возник в один миг на равнинном месте. «Уhан уры ехэдэнэ, эрьюлгэдэ нэгэ модон абтажа, саашаа урдаба. Уhан гарахаа болижо, шулуунай захаар шулу-ун, модон эльхэн тогтожо, ундыбэ. Уhанай догин энэ юумэ суглуулжа, энээндээ дараа, саашаа урдана» / «Вода становилась все яростнее. В водоворот попало ещё одно дерево. Деревья еще некоторое время колыхались возле площадки, затем, подхваченные новым потоком, понеслись вниз». «Между тем, вода быстро ушла на убыль. Стихия улеглась также быстро, как и взъярилась» [Батожабай, 1966, с. 158].
Тема воды раскрывает смысл внутреннего состояния героя романа, когда описание всей силы и мощи водной стихии сродни тем ощущениям, которые испытывает герой в душе. Ключевое слово вода , многократно повторяясь, связывает воедино весь фрагмент текста, состоящий из межфразовых единств: вода стремительно разливалась во все стороны ; вода подступала все ближе ; вода становилась все яростнее ; между тем, вода быстро ушла на убыль.
Известно, что в дискурс-анализе такой элемент как тема-рематическая структура текста играет одну из ключевых ролей как при создании текста, так и при её восприятии и интерпретации читателем. На этом примере можно определить наличие тема-рематической структуры веерного типа с повторяющейся стабильной темой и разными ремами. Рема «добавляет» новую информацию, расширяя тему. По сути, это развёртывание одной темы, темы вода , которая помогает передать другой, глубинный смысл сюжета: физическое и душевное состояние «наблюдателей». Думается, что таким образом автору удалось через ключевые слова создать не только сюжетный фон произведения, но и нечто большее, а именно, передать глубинный смысл национального текста. Известно, что в национальной картине мира вода как языковой знак символизирует не только очищение от скверны, но и умиротворённость. В тексте тема вода символизирует жизненный путь героя, происходящие в его душе потрясения и изменения, вызванные несправедливостью жизни или, по-другому, судьбы. Авторский замысел о счастливой судьбе человека, которая реализуется не в этой жизни, не у этого главного героя Аламжи, а у другого, например, у его сына Булада, заключён в символизме умиротворённости бытия, текущей далее как вода.
Таким образом, лингвистическая интерпретация художественного национального текста как с позиций теории текста, так и теории дискурса способна предоставить филологу более глубокое осмысление произведения эпического плана, каковым по праву является роман-трилогия Д. О. Батожабая. Лингвистика текста, реализованная в авторском национальном тексте, позволяет определить неочевидные авторские интенции, относящиеся к области авторской концепто-сферы, обнаруживая «личность адресанта, его позиции, эмоции, оценки, намерения». С другой стороны, Читатель как и сам Автор находит отклик своим душевным нравственным исканиям в Тексте и как системе языковых знаков, и как «коммуникативной единице высшего уровня».
Список литературы Дискурсивные особенности национального текста
- Батожабай Д. О. Төөригдэhэн хуби заяан. Улан-Удэ: Буряадай номой хэблэл, 1966. 360 с.
- Бурятско-русский словарь. Буряад-ород словарь / сост. К. М. Черемисов. М.: Советская энциклопедия, 1973. 803 с.
- Валгина Н. С. Теория текста: учеб. пос. М.: Логос, 2003. 280 с.
- Жамсаранова Р. Г., Цыренова Н. Н. Тема-рематическая организация темы тоска в романе Д. О. Батожабая "Похищенное счастье" // Лингвистика и межкультурная коммуникация: материалы всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. В. Воронченко. 2018. С. 92-94.
- Наер В. Л. Дискурс и речь: речевое произведение: сб. науч. тр. / МГЛУ. М., 2006. С. 7-15.
- Батожабай Д. О. Похищенное счастье: роман: в 3 т. / пер. с бурят. Н. Рыбко. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1967.
- Сердюк Е. Н. К проблеме определения признаков художественного дискурса // Культура народов Причерноморья. 2012. № 226. С. 85-87 [Электронный ресурс] // URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/56015/25-Serdiuk.pdf (дата обращения: 15.11.2017).
- Серебрякова З. А. Национальный характер в романе Д. Батожабая "Похищенное счастье" // Вестник Бурятского государственного университета, 2013. Вып. 10. С. 24-28.