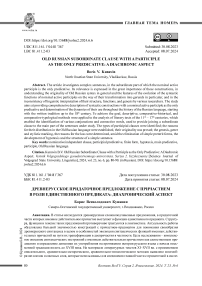Древнерусское придаточное предложение с причастием в роли единственного предиката: диахронический аспект
Автор: Кунавин Б.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются древнерусские сложноподчиненные предложения, в придаточной части которых именное действительное причастие выступает в функции единственного предиката. Структура, функции и генезис таких предложений противоречиво трактуются в лингвистике. Актуальность работы обусловлена большой значимостью конструкций с причастием-предикатом для понимания своеобразия древнерусского синтаксиса в целом и особенностей эволюции синтаксических функций именных действительных причастий на пути их трансформации в деепричастия в частности. Цель исследования - комплексное описание синтаксических построений с именным действительным причастием как единственным предикатом и определение динамики их употребления на протяжении истории русского языка с начала письменной традиции вплоть до XVIII века. На материале литературных текстов XI-XVII вв. с применением описательного, сравнительно-исторического, сравнительно-типологического методов выявлено многообразие союзов и союзных слов, которые использованы для соединения главной части с придаточной в исследуемых предложениях; охарактеризованы типы причастных клауз; установлены причины их распространения в древнерусском языке; доказана их оригинальность; определены генезис, жанрово-стилистическая маркированность и причины утраты на фоне устранения простых претеритов, развития гипотаксиса и строя простого предложения.
Именительный самостоятельный оборот, причастный предикат, финитная форма, гипотаксис, главный предикат, причастие, древнерусский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149147516
IDR: 149147516 | УДК: 811.161.1’04:81’367 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.6.6
Текст научной статьи Древнерусское придаточное предложение с причастием в роли единственного предиката: диахронический аспект
DOI:
Сложноподчиненные предложения, в составе зависимой части которых в роли единственного сказуемого выступает именное действительное причастие, являются характерной особенностью древнеславянского синтаксиса. Составляя его далекую периферию, они, тем не менее, находили употребление в различных славянских языках – старославянском, древнерусском, древнепольском, древнечешском и др. Одним из первых на них обратил внимание А.Х. Востоков [Востоков, 1863, с. 109]. Основы их изучения заложил А.А. Потебня, утверждавший, что придаточная часть с причастием в вершине соединена с главной не непосредственно, а при помощи союзов или относительных слов [Потебня, 1958, с. 230]. Точка зрения А.А. Потебни была поддержана многими исследователями (см., например: [Белоруссов, 1901, с. 57; Истрина, 1919, с. 89; Пигин, 1955, с. 190; и др.]).
Данные конструкции представляли собой разновидность именительных самостоятельных оборотов (далее – ИС) [Кунавин, 2022] и характеризовались основным для ИС конститутивным признаком – общим субъектом главной и придаточной части [Потебня, 1958, с. 220; Miklošich, 1883, S. 823, 834–836]. Возможно, подобные обороты речи существовали уже в балто-славянский период, о чем свидетельствуют данные литовского языка, в котором причастное сказуемое в придаточной части сложноподчиненного предложения служит трансляции чужой речи. Однако в отличие от древнерусского языка в литовском языке они характеризуются наличием разных субъектов в глагольной и причастной частях. [Потебня, 1958, с. 224]. При этом так же, как и в случае с ИС, части которого соединены сочинительным союзом, в анализируемой кон- струкции с причастным предикатом в придаточном предложении, присоединенном к главному посредством подчинительного союза или относительного слова при едином логическом субъекте в главной и придаточной частях подлежащие могут быть выражены разными словами, обозначая один и тот же субъект.
Семантическая связь между подлежащими ИС и глагольной части маркирует зависимость ИС от последней, поэтому возникает вопрос: с какой целью в придаточной части древнерусские книжники использовали причастное сказуемое, если указанная зависимость выражается относительными словами и подчинительными союзами?
А.Н. Стеценко справедливо утверждает, что причастный предикат в придаточной части представляет собой своеобразный индикатор ее зависимости от главной, однако ничего не говорит о роли относительных слов и подчинительных союзов [Стеценко, 1978, с. 4–5]. Большинство исследователей признают высокую степень предикативности причастного сказуемого в исследуемой конструкции [Потебня, 1958, с. 221; Будде, 1917, с. 63; Истри-на, 1919, с. 87; Barnet, 1965, s. 163; Růžička, 1963, S. 198, 231; и др.].
Однако некоторые языковеды, находясь под впечатлением современного им языкового восприятия, не признают такие клаузы с причастием в вершине в качестве самотож-дественных. Так, А. Вайан вслед за А.Х. Востоковым считал, что в подобных клаузах причастие употреблено вместо финитной формы в изъявительном наклонении. Между тем уже А.А. Потебня скептически относился к подобному суждению, возражая А.Х. Востокову: «...справедливо разве в обратном смысле, что позже здесь ставилось изъявительное» [Потебня, 1958, с. 210]. Е.А. Карский и Ф. Травничек утверждали, что в данных кла- узах при причастии опущен вспомогательный глагол. Однако А.А. Потебня обоснованно протестовал против таких допущений [Потебня, 1958, с. 221]. Наличие указанных суждений свидетельствует о недостаточной разработке проблемы в трудах классиков славистики, не исследуется она и в современных работах. Так, в трудах, посвященных истории причастий, указанные конструкции не анализируются [Абдулхакова, 2007; Сахарова, 2007; Эгипти, 2002]. Определенные сведения по данной проблеме содержатся лишь в нашей докторской диссертации [Кунавин, 1993].
Актуальность статьи заключается в существенной значимости указанных оборотов в истории русского синтаксиса, в раскрытии его своеобразия, в определении общего направления истории развития именных действительных причастий на пути их преобразования в деепричастия, в противоречивом толковании их структуры в языковедческой литературе.
Цель работы – комплексное описание синтаксических построений с именным действительным причастием как единственным предикатом и определение динамики их употребления на протяжении истории русского языка, начиная с письменной традиции вплоть до XVIII в., стилистической принадлежности, особенностей генезиса и причин утраты на фоне устранения простых претеритов, а также развития гипотаксиса и строя простого предложения.
Материал и методы
В работе в качестве основных применялись описательный, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический методы. Материалом исследования послужила личная картотека автора, составленная методом сплошной выборки из памятников литературы Древней Руси XI–XVII вв. сложноподчиненных предложений, в зависимой части которых в роли единственного сказуемого выступает именное действительное причастие.
Исследованные обороты в синтаксической системе причастий занимали на всех этапах истории русского языка употреблялись необычайно редко, так как уже к началу письменной традиции были вытеснены конструкциями с финитными формами глаголов.
В общей сложности картотека включает 207 примеров, что составляет около 1 % от общего количества конструкций с именными действительными причастиями в именительном падеже. Наибольшая употребительность была им свойственна в XI–XII вв., что свидетельствует о их архаичности. В картотеке имеется 33 контекста из памятников письменности XI–XII вв. и 43 – из текстов XII века. При этом важном подчеркнуть, что в текстах указанного периода исследуемые конструкции характеризовались также значительным структурным многообразием. В текстах XIII в. употребительность указанных оборотов снижается – 22 примера; XIV в. – 22; XV– 19; в текстах XVI в., массив которых в 3 раза выше, чем в памятниках XII в., – 58 случаев. В текстах XVII в. было выявлено 45 примеров употребления исследуемых конструкций. С учетом того, что объем указанных текстов в 4 раза выше, чем объем текстов XII в., можно сделать вывод, что анализируемые обороты в XVII в. использовались в 4 раза реже, чем в XII в., и в 2 раза реже, нежели в XVI веке. Следовательно, в XVII в. зачастую уже с несогласованными формами причастий (деепричастиями) исследуемые синтаксические построения почти полностью утратились.
Результаты жанрово-стилистического анализа конструкций с придаточной частью с причастием в вершине показали, что наибольшее употребление она находила в летописных погодных записях (Галицко-Волынская, Лаврентьевская и др.), повестях (летописные повести о походе князя Игоря и другие фрагменты Повести временных лет, Казанская история, Повесть о Савве Грудцыне и др.), менее употребительна эта конструкция в памятниках с народными особенностями языка (Поучение Владимира Мономаха, Послания Ивана Грозного, сочинения Аввакума и др.). То, что анализируемая конструкция находила употребление в древнерусских памятниках, отражающих живую разговорную речь, подтверждается данными русских диалектов. Единично они встречаются в житиях (Житие Феодосия Печерского, Житие Сергия Радонежского и др.), в посланиях, словах, поучениях, хождениях и др., в переводных текстах (Девгениево деяние, Из «Римских деяний», Из «Измарагда»,
Повесть о Варлааме и Иосаафе и др.). Всего было проанализировано свыше 100 произведений.
Результаты и обсуждение
Именные действительные причастия настоящего времени, находящиеся в вершине зависимой клаузы сложноподчиненного предложения, выражают действие, одновременное с действием финитной формы в роли сказуемого главной части. Формы прошедшего времени в той же роли в препозиции относительно глагольной части обозначают действие, предшествующее действию предиката в спрягаемой форме, в постпозитивном положении анализируемые причастные предикаты обозначают результат действия главного предиката. Таким образом, наблюдается полная аналогия с одноподлежащными оборотами с причастием в роли второстепенного сказуемого [Кунавин, 1993].
Среди анализируемых причастных клауз было выявлено восемь типов.
В конструкциях первого типа в главной части в роли сказуемого выступает глагол быти , при котором отсутствует подлежащее, а в придаточной – причастный предикат в форме настоящего времени как совершенного, так и несовершенного вида. Правомерность квалификации таких оборотов в качестве сложноподчиненных предложений впервые обосновал А.А. Потебня [1958, с. 203– 209]. Затем эта точка зрения была поддержана многими отечественными и зарубежными языковедами [Gebauer, 1929, s. 598; Růžička, 1963, S. 231; и др.].
В исследованных текстах встретилось восемь таких конструкций: 7 – в памятниках XI–XIII вв. и одна – в тексте XVI века. Три оборота с причастиями совершенного вида, причем глагольный предикат в двух случаях выражен формой аориста и однажды – формой настоящего времени:
-
(1) ...А о наших не бысть кто и в h сть принеса (ПЛДР, вып. 2, с. 368);
-
(2) ...И н h сть кто помилуя их (ПЛДР, вып. 7, с. 66).
Впрочем, с учетом особенностей развития категории вида в древнерусском языке о совершенном виде подобных причастий мож- но говорить лишь со значительной долей условности (см. об этом: [Budich, 1969]).
В пяти конструкциях причастия употреблены в форме несовершенного вида:
-
(3) ...Н h сть, къто воды нося (ПЛДР, вып. 1, с. 342);
-
(4) По смерти же великаго князя Болеслава не бысть кто княжа в Лядьской земли (ПЛДР, вып. 3, с. 374).
В свое время В. Ягич, исходя из современного ему языкового восприятия, не учитывал в данном обороте специфику относительного слова и определял причастие в качестве предикатива при глагольной связке [Jagič, 1899, S. 68]. И.И. Срезневский считал, что причастие здесь подверглось субстантивации и выступает в роли подлежащего [Срезневский, 1959, с. 59]. Однако подобные трактовки причастия были убедительно отвергнуты [Потебня, 1958, с. 209; Růžička, 1963, S. 31]. Причем А.А. Потебня приводит такие конструкции не только из древнерусского языка, но и древнечешского, и древнепольского [Потебня, 1958, с. 203].
В конструкциях второго типа зависимая часть с причастным предикатом соединяется с главной при помощи относительного слова в форме именительного падежа. Предикат главной части может быть выражен как глаголом (обычно в форме инфинитива или, реже, императива), так и именем. Если он обозначен глаголом быти , то при нем (в отличие от структур первого типа) непременно наличествует подлежащее. Такие конструкции в древнерусском языке употреблялись от начала письменной традиции до XVII века.
В исследованных материалах встретилось 23 примера с указанными оборотами: 12 с формами причастий прошедшего времени и 11 – настоящего. Наиболее часто причастная клауза присоединяется к глагольной посредством относительного слова иже, являющегося подлежащим при причастном сказуемом [Александров, 1958, с. 153; Růžička, 1963, S. 230]. Генетически оно является результатом объединения указательного местоимения и, я, е с союзом же и функционально совпадает с относительными словами который, что, кто [Потебня, 1958, с. 210; Карский, 1913, с. 71]. При этом проблема проис- хождения лексемы иже (яже, еже) до настоящего времени не решена. Некоторые языковеды возводят ее к греческому языку [Буслаев, 1844, с. 316; Алимпиева, Ваулина, 1980, с. 57], Ф. Александров считает ее индоевропейской, унаследованной из праславянского языка отдельными славянскими языками [Александров, 1958, с. 153].
Причастная часть указанного типа обычно располагается после главной:
-
(5) И се вид h ша вси мниси , иже къ заутрени идуще (ПЛДР, вып. 2, с. 444);
-
(6) Где есть Василий царь, иже имея желание видетесь со мною? (ПЛДР, вып. 3, с. 62).
В придаточной части изредка могли располагаться два причастия:
-
(7) Се есть доброразумный другъ и благый, иже горкое наше доброжитие в память износя и с лихвою намъ вся отдаваа (ПЛДР, вып. 2, с. 203).
В подобных случаях трудно установить предикативный центр: то ли причастные предикаты являются однородными, то ли один из них зависит от другого.
Необычайно редко придаточная часть с причастием в вершине могла находиться в препозиции относительно главной части или располагаться в ее интерпозиции:
-
(8) Иже бо не вид h въ тоа радости въ тъ день, то не иметь в h ры сказающим (ПЛДР, вып. 2, с. 112);
-
(9) Те же пакы, иже чтяще богы, на три роды разделяются (ПЛДР, вып. 2, с. 214).
Чрезвычайно редко употребляются в данной конструкции другие относительные слова: который , каков , какой , елици , чьто , къто . Это объясняется их принадлежностью деловой речи, для книжных текстов они не характерны [Сумкина, 1954, с. 172]. В проанализированном литературном материале в указанном типе оборотов с подобными словами встретился всего один пример:
-
(10) То же слышавше новгородстии людие , бояре их, и посадници , и тысяцкие , и житии люди , котори не хотяще первого своего обычая и кр h стнаго ц h лования преступити , ради быша вси сему (ПЛДР, вып. 4, с. 380).
Особенностью приведенной конструкции в (10) является зависимость придаточной ча- сти с причастным предикатом от именительного самостоятельного оборота, причем субъект придаточной части котори складывается из суммы субъектов именительного самостоятельного, а субъект главного предложения, к которому относится именительный самостоятельный, также представляет собой сумму субъектов именительного самостоятельного. Случаи употребления подобных конструкций в древнерусском языке приводит А.А. Потебня [1958, с. 220].
Характерной приметой конструкций третьего типа представляется соединение придаточной клаузы с причастием в вершине с главной посредством относительного местоимения в прямом падеже и относительного местоимения в косвенном:
-
(11) ...А они и сами бежаша друг друга бью-ще, кои с кого мога (ПЛДР, вып. 5, с. 390).
Употребление таких оборотов в литературном языке редко, это объясняется их тяготением к разговорной речи, на что уже указывал В. Ягич, приводя соответствующие примеры русских пословиц: Кто кого смога, тот того в рога [Jagič, 1899, S. 69]. Такие конструкции употреблялись и в украинских грамотах [Коломиец, Мельничук, 1957, с. 203; Без-палько и др., 1962, с. 395].
В конструкциях четвертого типа придаточная часть с причастием в вершине соединяется с главной при помощи относительного местоимения в косвенном падеже. В. Ягич и Р. Вечерка, исходя из современного им языкового восприятия, считали причастие в придаточной части компонентом составного сказуемого с опущенной связкой [Jagič, 1899, S. 68; Večerka, 1959, S. 41]. Между тем уже А.А. Потебня, а позже Р. Ружичка аргументированно отвергли подобное допущение [Потебня, 1958, с. 211; Růžička, 1963, S. 198].
Эти обороты речи в исследованных текстах были употреблены 11 раз. В пяти конструкциях связь между главной и придаточной частью осуществляется посредством относительного местоимения иже . Причастное сказуемое могло быть как в форме настоящего, так и прошедшего времени, причем преобладают конструкции с причастием настоящего времени:
-
(12) ...И все еже имея , на церковную потребу истроши (ПЛДР, вып. 2, с. 508);
-
(13) ...Начатъ пов h дати жен h своей великая чю-деса Христова, яже вид h въ (ПЛДР, вып. 3, с. 228).
Иногда данное местоимение употребляется в несогласованной форме, что указывает на его постепенную утрату (см. об этом.: [Александров, 1958, с. 154]):
-
(14) Обаче же уже на пьрьвое съпов h дание възвратимъся, яже (вместо еже) о блажен h мъ Феодосии испов h дающе (ПЛДР, вып. 1, с. 366).
Иные относительные местоимения для данной связи используются единично:
-
(15) Володимеръ же из Берестья посла к нимъ жито в лодъяхъ по Бугу с людми с добрыми, кому в h ря (ПЛДР, вып. 3, с. 374);
-
(16) ...Яко велику честь приялъ от царя, при которомъ приходивъ цари (ПЛДР, вып. 2, с. 20);
-
(17) ...А завътра приношаху по ней, что вда-дуче (ПЛДР, вып. 2, с. 30).
В конструкциях пятого подтипа придаточная причастная клауза соединяется с главной посредством относительного наречия и относительного местоимения:
-
(18) ...И начаша избивати татаръ, где которого застропивъ (ПЛДР, вып. 4, с. 64), (ед. ч. вм. множ.);
-
(19) ...А друзии разб h гошася, камо кто видя (ПЛДР, вып. 4, с. 64).
Характерной чертой конструкций шестого типа является осуществление связи придаточной причастной части с главной глагольной посредством относительного наречия:
-
(20) ...Не в h дяху бо, камо б h жаще (ПЛДР, вып. 3, с. 238);
-
(21) ...И прозвашася имены своими гд h с h дше на которомь м h ст h (ПЛДР, вып. 2, с. 24).
В конструкциях седьмого типа придаточная причастная клауза соединяется с глагольной главной частью при помощи подчинительного союза. Такие конструкции среди анализируемых оборотов многочисленны (75 случаев). Наиболее активен в указанной функции полисемантичный союз яко , выражающий следующие значения между частями исследуемой конструкции:
временное:
-
(22) Яко пришедше с h доша на р h ц h имянемь Марава (ПЛДР, вып. 2, с. 24);
изъяснительное:
-
(23) Сий же кленяшеся, яко николи же читавъ книгъ (ПЛДР, вып. 2, с. 520);
сравнительное:
-
(24) Яко же николи же болев поиде ко образу (ПЛДР, вып. 10, с. 53);
причинное:
-
(25) ...И надълз h плакастася, якоже много вр h мя не вид h въшася (ПЛДР, вып. 1, с. 342);
атрибутивное:
-
(26) Азъ же молебные глаголы со слезами глаго-лахъ ей, яко же и вы слышавше (ПЛДР, вып. 10, с. 53);
причинно-целевое:
-
(27) Се бо на ны богъ попусти поганыя, не яко милуя ихъ, но нас кажа (ПЛДР, вып. 2, с. 232).
Вторым по степени употребительности в данной функции является однозначный союз егда (17 употреблений), например:
-
(28) ...Ту паки на осля вс h л Христос, егда Лазаря въсресивъ (ПЛДР, вып. 2, с. 44).
В приводимой ниже конструкции один и тот же субъект в придаточном и главном предложениях манифестирован тождественными подлежащими:
-
(29) А егда постився Христосъ надъ Ерданомъ (своима очима вид h лъ есмь постницу его), сто фу-ник Христос посадил (ПЛДР, вып. 4, с. 46).
Такой повтор подлежащих обусловлен разделением главной и придаточной частей вставным (вводным) предложением. Гипотаксис в древнерусском языке только формировался под влиянием старославянского языка, а в последнем не без воздействия греческого. Однако подчинительные в современном понимании средства связи (относительные слова и подчинительные союзы), обозначая разнообразные смысловые отношения между главным и придаточным предложениями, еще не были достаточными для выражения грамматической зависимости придаточной части от главной. Нередко с точки зрения современного языкового восприятия являющиеся гипотактическими синтаксические конструкции были слабо дифференцированы от соответствующих паратактических, о чем свидетельствует использование для связи главной части с придаточной наряду с подчинительным союзом сочинительного, а иногда и такого архаичного способа, как повторение одинаковых подлежащих для выражения одного и того же субъекта, подобно примеру (29). На недостаточное развитие гипотаксиса в древнерусском языке указывают и многочисленные обороты, в которых главное (глагольное) и второстепенное (причастное) сказуемые соединяются посредством сочинительного союза. Наиболее часто анализируемые конструкции с союзом егда встречаются в памятниках XVI–XVII веков.
В отличие от книжного союза егда , высоко употребительного в анализируемой функции, временной союз когда в исследуемых конструкциях встретился всего дважды:
-
(30) Притча къ мужемъ, иже от б h дъ когда спасшеся благодателемъ же сицевая воздают злобою благодать (ПЛДР, вып.11, с. 54);
-
(31) Адамъ когда прьвозданный жен h поко-рився , из раа изгнан бысть (ПЛДР, вып. 2, с. 544).
Относительно высокую динамику в исследованных материалах показал в данной функции книжный союз аще , транслирующий условную семантику:
-
(32) Сыну, аще въ знаемых людехъ с h дя , худобы своея не являй (ПЛДР, вып. 2, с. 254).
Придаточные причастные предложения с книжным союзом акы обычно имеют сравнительное значение:
-
(33) И тако идяшеть назадъ с великою гордостью, аки всю землю вземъ (ПЛДР, вып. 3, с. 380).
Значительно реже указанный союз выражал семантику причины:
-
(34) ...По верху гроба его дъсками древяными вышши лакти покрыша, аки в h ровавше добр h и жизни его (ПЛДР, вып. 5, с. 372).
Союз како в исследуемой функции выражает изъяснительное значение:
-
(35) Слыши, сыне мой, про царя Давида, како блуда ради хотя смерть прияти (ПЛДР, вып. 4, с. 494).
Лишь однажды данный союз в исследуемых конструкциях встретился с семантикой времени:
-
(36) А как пришедши князи Ряполовские на-чаша говорити... (ПЛДР, вып. 4, с. 514).
Несколько реже союза како с изъяснительной семантикой в анализируемых оборотах речи встречается союз что :
-
(37) И не рцы, что зло творя (ПЛДР, вып. 3, с. 460).
Союзы занеже и понеже в исследуемых конструкциях выражают семантику причины:
-
(38) Понеже сами имуще совесть непостоя-тельну и крестопреступну и малаго ради блистания злата пременну, се убо и нам сов h туете (ПЛДР, вып. 8, с. 58).
Конструкции с союзом елико выражают семантику степени:
-
(39) Сыну, его же богъ обогатить, то не звиди ему, но боле, елико мога , почьсти и (ПЛДР, вып. 2, с. 256).
Придаточные предложения с союзом рекше , синонимичным современному то есть , имеют пояснительное значение:
-
(40) Отець бо сего Володимеръ землю взора и умягчи, рекше крещеньемь просв h тивъ (ПЛДР, вып. 2, с. 166).
Конструкции восьмого типа характеризуются тем, что в них придаточная часть с причастием в вершине связывается с глагольной частью без участия подчинительного союза, однако семантика придаточной части отчетливо указывает на ее зависимое положение от главной:
-
(41) Половци же вид h вше одолевше (= увидев, что одолели) пустиша (ПЛДР, вып. 2, с. 230);
-
(42) ...Другый же страха ради пред архиер h и с клятвою отвержеся, не зная тебе челов h ка (ПЛДР, вып. 2, с. 312).
Следует заметить, что такое бессоюзное соединение придаточной части предложения с главной впервые в русистике отметил Ф.И. Буслаев, указав на его архаичность [Буслаев, 1844, с. 316–317]. Многие исследователи также обоснованно видели в таких конструкциях остаток глубокой древности, когда еще отсутствовали соответствующие средства подчинительной связи [Корш, 1877, с. 16; Белоруссов, 1901, с. 36; Сумкина, 1954, с. 142]. Согласно наблюдениям А.И. Сумкиной, количество подобных оборотов без союзных слов и союзов в древнерусских письменных памятниках незначительно, чаще они имеют место в диалектах [Сумкина, 1954, с. 142]. Примечательно, что такое своеобразие диалектного синтаксиса отмечал еще В. Мансикка [1912, с. 279]. В древнерусских литературных материалах встретилось всего пять указанных конструкций.
Важно подчеркнуть, что субъект главной и придаточной частей обычно был один и тот же. Только в 18 конструкциях из 207 субъекты причастной и глагольной частей являются разными: в памятниках XI–XII вв. было обнаружено всего 4 конструкции, XIII в. – 1, XIV в. – 1, XV в. – 2, XVI в. – 1, XVII в. – 8:
-
(43) И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ (господь) челов h ка (ПЛДР, вып. 1, с. 398).
При этом следует учитывать, что чем ближе к нашему времени, тем объем текстов больше.
Таким образом, исследованные синтаксические конструкции на всех этапах истории русского языка сохраняли односубъектность причастной придаточной части и главной глагольной. На фоне трансформирования именных действительных причастий в деепричастия и устранения исследованных оборотов из синтаксической системы древнерусского языка незначительное усиление динамики употребления разносубъектных оборотов в памятниках XVII в. следует рассматривать не как эволюцию типа, а как утрату им своего дифференциального признака.
Заключение
Придаточное предложение с именным действительным причастием в вершине в древнерусском языке соединялось с главной глагольной частью удивительным многообразием союзных слов и союзов, а само предложение характеризовалось значительным конструктивным богатством. Данный факт убедительно свидетельствует о том, что исследованные конструкции не являются случайностью или эпизодическим отклонением от хорошо известных традиционных синтаксических построений, а знаменуют собой оригинальное явление древнерусского синтаксиса. Однако к началу письменной традиции такие обороты речи были уже глубоко архаичными, что подтверждается не только чрезвычайной редкостью их употребления, но и вплоть до XVII в. почти полным отсутствием в придаточной части несогласуемого причастного предиката.
Генезис проанализированных синтаксических структур был обусловлен потребностью однозначного выражения подчинительных отношений между второстепенным и главным сказуемыми. Их развитие восходит к соответствующим односубъектным бессоюзным структурам, отличающимся неоднозначностью выражаемых отношений. Данное утверждение обосновывается последовательной односубъектностью второстепенного и главного предикатов в составе изученной конструкции. Именно односубъектность была особенностью бессоюзных оборотов с именным действительным причастием в функции второстепенного сказуемого. По причине неразвитого гипотаксиса в древнерусском языке они в определенной мере восполняли недостаток в истинных предложениях, в грамматическом смысле занимая промежуточное место между широко распространенными бессоюзными причастными оборотами и глагольными придаточными предложениями, соединенными с главными при помощи союза или относительного слова. Именно развитие средств выражения подчинительной связи между главным и придаточным предложениями стало основной причиной устранения исследованных конструкций из древнерусского языка. Во все периоды его истории они были принадлежностью книжных жанров и стилей, о чем свидетельствует и сугубо литературный характер союзных слов и союзов, используемых для их связи с главной глагольной частью. Однако ограниченное использование для данной связи подчинительных средств с народными чертами, редкое использование оборотов с деепричастиями на месте древнерусских причастий в русских и украинских диалектах (пiдписуе, що попавши, робить, як здумавши) позволяют предположить, что такие конструкции не были чужды и народной речи.
В литовском языке подобные конструкции сохранились, видимо потому, что приобрели особый модальный оттенок, получив специфическое значение, отличное от семантики финитной формы.
При дальнейшем изучении данных оборотов в древнерусском языке важно их сопоставление с соответствующими глагольными с целью выявления сходств и различий в их семантике, прагматике. Существенно проведение сравнительного исследования указанных конструкций с такими же оборотами в других древнеславянских языках, что поможет более глубокому осознанию их сущности и функций.
Список литературы Древнерусское придаточное предложение с причастием в роли единственного предиката: диахронический аспект
- Абдулхакова Л. Р., 2007. Категория деепричастия в русском языке. Казань: Казан. гос. ун-т. 186 с.
- Александров Ф., 1958. О значениях и функциях местоимений «который», «иже» и «кый» в основных памятниках древнеболгарского языка // Славистичен сборник. По случай IV международен конгрес на славистите в Москва. Т. 1. Езикознание. София: Издание на Българската Академия на наукита. С. 146–163.
- Алимпиева Р. В., Ваулина С. С., 1980. К вопросу о функционировании относительных конструкций в древних славянских языках // Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. С. 53–58.
- Безпалько О. П., Бойчук М. К. и др., 1962. Iсторична граматика української мови. Київ: Видавництво Радянська школа. 510 с.
- Белоруссов И., 1901. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни. Орел: Тип. Хализева. 258, XIV с.
- Будде Е. Ф., 1917. Вопросы методологии русского языкознания: пособие для преподавателей рус. яз. в сред. шк. и для самообразования. Казань: Кн. маг. М. А. Голубева 169 с.
- Буслаев Ф. И., 1844. О преподавании отечественного языка. Ч. 1. М.: Унив. тип. 336 с.
- Востоков А. Х., 1863. Грамматика церковнославянского языка. СПб.: Тип. Императ. акад. наук. 135 с.
- Истрина Е. С., 1919. Синтаксические явления I Новгородской летописи // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. Кн. 2. С. 1–172.
- Карский Е. Ф., 1913. Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским. Варшава: Тип. Варшав. учеб. окр. 104 с.
- Коломиец В. Т., Мельничук А. С., 1957. Fr. Trávniček. Historicka mluvnice česka. III. Praha, SPN, 1956 // Вопросы языкознания. № 5. С. 145–151.
- Корш Е. Ф., 1877. Способы относительного подчинения: Глава из сравнительного синтаксиса. М.: Унив. тип. (Катков). 110 с.
- Кунавин Б. В., 1993. Функциональное развитие системы причастий в древнерусском языке: дис.... д-ра филол. наук. СПб. 702 с.
- Кунавин Б. В., 2022. Причастная клауза в истории русского языка // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 21, № 6. С. 76–87. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.6.6
- Мансикка В., 1912. Говор Грязовецкого уезда Вологодской губернии // Русский филологический вестник. № 4. С. 271–279.
- Пигин М. И., 1955. Причастное сказуемое в древнерусском языке, выраженное нечленным действительным причастием // Ученые записки Карело-Финского университета. Т. 5, вып. 1. С. 175–201.
- Потебня А. А., 1958. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М.: Учпедгиз. 536 с.
- Сахарова А. В., 2007. Синтаксис и прагматика причастного оборота в древнерусской летописи: Критерии распределения предикаций на причастные и финитные в Комиссионном списке Новгородской первой летописи: автореф. дис.... канд. филол. наук. М. 20 с.
- Срезневский И. И., 1959. Мысли об истории русского языка. М.: Учпедгиз. 135 с.
- Стеценко А. Н., 1978. История именных действительных причастий и образование деепричастий в русском языке // Проблемы стилистики и лексики русского языка. М.: [б. и.] С. 3–11.
- Сумкина А. И., 1954. К истории относительного подчинения в русском языке XIII–XVII вв. // Труды института языкознания АН СССР. Т. 5. С. 139–202.
- Эгипти И. А., 2002. Свободные и несвободные причастные и деепричастные конструкции в русском литературном языке второй половины ХVIII в.: дис.... канд. филол. наук. М. 192 с.
- Barnet V., 1965. Vývoj systému participiί activnίch v ruštinê. Praha. Universita Karlova. 191 s.
- Budich W., 1969. Aspekt und verbale Zeitlichkeit in der 1. Novgoroden Chronic. Graz: [s. n.]. 288 S.
- Gebauer I., 1929. Historická mluvnice jazyka češkeho. Dil. 4. Praha: [s. n.]. 763 s.
- Jagič V., 1899. Beiträge zur slavischen Syntax. Denkschriften der keiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophischhistorische Classe. Band 46. Wien. 88 S.
- Miklošich F., 1883. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen von Franz Miklošich. Band 4. Syntax. Wien: [s. n.]. 895 S.
- Růžička R., 1963. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhaetltnis zum Griechischen. Berlin: Akademia-Verlag- Berlin. 395 S.
- Večerka R., 1959. Ke genesi slovanskich konstrukci participia praes. act. a praet. act. 1 // Sbornik praci filosof. fak. Brnenske university. Ročnik 8. Rady jazykovedne. A. 7. S. 37–49.