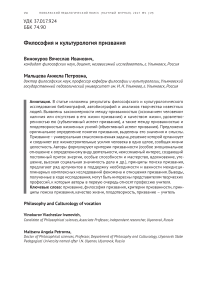Философия и культурология призвания
Автор: Винокуров Вячеслав Иванович, Мальцева Анжела Петровна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Анализ практик
Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье изложены результаты философского и культурологического исследования библиографий, автобиографий и анализов творчества известных людей. Выявлены закономерности между призванностью (осознанием человеком наличия или отсутствия в его жизни призвания) и качеством жизни, удовлетворенностью ею (субъективный аспект призвания), а также между призванностью и плодотворностью жизненных усилий (объективный аспект призвания). Предложено оригинальное определение понятия призвания, выделены его значения и смыслы. Призвание - универсальная смысложизненная задача, решение которой организует и соединяет все жизнестроительные усилия человека в одно целое, сообщая жизни целостность. Авторы формулируют критерии призванности (особое эмоциональное отношение к определенному виду деятельности, неиссякаемый интерес, создающий постоянный приток энергии, особые способности и мастерство, вдохновение, утешение, высокая социальная значимость дела и др.), принципы поиска призвания, предлагают ряд аргументов в поддержку необходимости и важности междисциплинарных комплексных исследований феномена и отношения призвания. Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть интересны представителям творческих профессий, к которым авторы в первую очередь относят профессию учителя.
Призвание, философия призвания, критерии призванности, принципы поиска призвания, качество жизни, плодотворность, призвание - учитель
Короткий адрес: https://sciup.org/14219751
IDR: 14219751 | УДК: 37.017.924
Текст научной статьи Философия и культурология призвания
Введение. Тему призвания нельзя отнести к разряду всесторонне разработанных. Хотя за последние годы защищено несколько диссертаций по разным её аспектам [Шабалкина 2002; Вишневский 2006; Шутова 2011], культурно-историческая универсалия призвания продолжает оставаться не отрефлексированной в достаточной мере. Связано это, на наш взгляд, с тем, что феномен призвания не может изучаться в рамках и средствами одной и только одной науки. Процесс обретения призвания и феномен призванности затрагивает все существо человека, сказывается на всех сторонах его жизни и деятельности. Более того, наличие или отсутствие у подавляющего большинства граждан потребности искать и ценить свое призвание, присутствие или отсутствие в культуре соответствующих поисковых практик, высокий или, напротив, низкий статус призвания как критерия успешности жизни имеют социально значимые последствия: результируются низкой или высокой социальной мобильностью, отражаются в нравах и общем уровне социального доверия, способствуют или мешают экономическому развитию страны. В силу этого, феномен призвания и может, и должен стать предметом исследования психологии и философии, социологии и педагогики, истории и наук об управлении.
В данной статье вниманию педагогического сообщества предлагаются результаты философского и культурологического анализа феномена и отношения призвания. Почему авторы обращаются, прежде всего, к педагогам, почему ищут внимания представителей именно этой профессии? Потому, что профессия учителя немыслима вне призванности человека к ней. Сложность задач, решаемых педагогом, социальная значимость института образования, специфическая синтезированная ответственность учителя перед обществом, государством и ребенком поднимают эту профессию на уровень искусства, заниматься которым без таланта и призвания нельзя. Работать учителем, педагогом - это значит ежедневно и ежечасно откликаться на Призыв - общества, личности, а для некоторых и Бога).
Авторами статьи проанализированы философские и научные работы, а также корпус текстов, содержащих биографии талантливых людей, художественные осмысления судеб людей призванных или не обретших призвание с целью выявления уже установленных или еще только нуждающихся в подтверждении закономерностей между призванием, с одной стороны, и социальным успехом, личным удовлетворением, плодотворностью и качеством жизни, с другой. Ни в коей мере не претендуя на исчерпание темы, авторы выносят на суд научной общественности результаты работы над понятием призвания, формулируют критерии призванности, предлагают ряд аргументов в поддержку необходимости и важности дальнейших междисциплинарных комплексных исследований феномена и отношения призвания.
Понятие призвания и критерии призванности. Призвание – это универсальная смысложизненная задача, решению которой человек посвящает всю свою жизнь. Осознание означает постижение индивидом основополагающего аспекта смысла собственной жизни. При этом решение указанной смысложизненной задачи организует и соединяет все жизнестроительные усилия человека в одно целое, сообщает его жизни целостность.
Можно говорить о своеобразной онтологии, гносеологии и аксиологии призвания. Призвание коренится в фундаментальной настроенности человека, его первичной предрасположенности к какой-либо деятельности, но обнаруживается благодаря поисковой активности человека. Именно поэтому при обнаружении своей смысложизненной задачи у человека возникает ощущение, что она как бы уже существовала до процесса поиска, что он нашел кем-то предуготовленную для него программу жизни.
Осознание предопределённости человеческой жизни произошло в христианской традиции, а в связи с реформационным движением оформилось понимание призвания как задачи, поставленной перед человеком Богом. В религиозном понимании призвания нашла свое первоначальное выражение следующая антропологическая универсалия – переживание своей смысложизненной задачи как сверхличного задания [Ильин 1990: 69]. Такое прочтение призванности было характерно для многих деятелей новоевропейской культуры. Так, Бальзак писал в одном из писем 1836 года: «Я человек, которому дано задание, я работаю 18 часов из 24, я обязан работать, моё время мне не принадлежит» [Грифцов 1988: 139-140].
Призвание может быть представлено в виде экзистенциальной реальности, которая дана человеку в переживании. Своеобразие этой реальности состоит в том, что переживается не только наличие призвания, но и не призванность к исполняемому делу. Отсутствие смысложизненой задачи может породить у человека состояние тоски. А. П. Чехов смог тонко передать жизнечувствие человека, который не обрёл своего призвания, хотя занимался делом важным: тоской из-за не осуществлённости, не реализованности в чём-то самом главном овеяны рассуждения профессора из «Скучной истории», отца Пётра из рассказа «Архиерей».
Обретенное призвание есть единство предметного служения и сознания призванно-сти. Важным моментом последнего является понимание неизбежности и обязательность для человека данного дела. Эту идею постигает Мисаил, герой повести А. П. Чехова «Моя жизнь»: «Когда я пахал или сеял (…), то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь» [Чехов 1970: 158].
Критерии призванности носят динамический характер и составляют своеобразную систему. Первый критерий состоит в особом эмоциональном отношении человека к тому виду деятельности, в котором он пытается обнаружить свою смысложизненную задачу. Призвание связано с любимым видом деятельности, с любимым делом. Любовь эта вырастает на основе устойчивого интереса. Этот интерес с избытком возвращает человеку потраченную на исполнение дела энергию: «Человек становится свободным для осуществления своей задачи (…) Он живёт сосредоточенно, единым доминирующим интересом и сводит к этому интересу, как к мере и фундаментальному критерию, всё многообразие событий» [Аббаньяно 1992: 154].
Биограф Януша Корчака, выясняя слагаемые интереса к воспитанию детей у героя своего жизнеописания, пишет, что тот не случайно выбрал педиатрию на медицинском факультете. Многие годы он зарабатывал на жизнь частными уроками, но детей бедняков учил бесплатно. В 1901 году появилась повесть Я. Корчака «Уличные дети», в которой он рассказал о том, как он учил беспризорных детей и организовывал для них игры. Постепенно «созревал его литературный талант и появлялся жгучий интерес к проблеме ребёнка и его воспитания» [Кочнев 1991: 30-31].
Способность выполнять с любовью даже однообразную, монотонную работу в пределах определённого вида деятельности – свидетельство призванности человека к нему. На Ц. Кюи, например, уже в детстве сильное влияние оказала музыка Ф. Шопена, особенно его мазурки. Но у семьи не было возможности приобрести для сына дорогостоящее издание произведений Шопена. Мальчик собственноручно переписал все мазурки польского композитора, да ещё не на нотной, а на обыкновенной бумаге, им же разлинованной [Назаров 1989: 10]. Пьер Аржиле, книгоиздатель и коллекционер, вспоминал, что С. Дали скрупулёзно и долго работал над своими картинами, «обладал большим запасом терпения и мог провести целый день, выписывая на холсте какую-нибудь одну деталь. У Дали был вкус к работе, причём к упорной работе, и желание придать ей завершённость» [Советская культура 1989].
Второй критерий призвания заключается в наиболее ярких и сильных способностях человека, с которыми связана его плодотворность. Гёте писал: «Самый ничтожный человек может стать совершенным, если он движется в пределах своих способностей и навыков» [Свасьян 1989: 183]. Н. А. Бердяев определял призвание как служение, осуществляемое человеком в соответствии с данным ему даром [Бердяев 1931: 117]. Испанский мыслитель Х. Ортега-и-Гассет во многих своих работах подчеркивал, что ощутить в себе особый дар, – значит сделать важный шаг на пути к призванию. Если человек не идёт этим путём, он становится «человеком массы» [Ортега-и-Гассет 2016: 26].
Оба критерия (интерес, создающий постоянный приток энергии, и особые способности) взаимосвязаны, ибо «интерес рождается всегда в зависимости от личного дарования и знания» [Голосовкер 1989: 125].
Осуществление призвания – это вдохновляющий труд. Гёте признавался, что величайшую радость ему неизменно доставляло поэтическое воплощение того, что он подмечал в себе, в других и в природе [Гете 1976: 203]. Ф. Ницше в четырнадцать лет всего за 12 дней написал историю своего детства. Он «писал с величайшим наслаждением и ни одной минуты не чувствовал себя утомленным» [Галеви 1911: 7]. А М. М. Пришвину состояние радости дало основание верить в своё призвание писателя. «Я раздумывал тогда, в поезде: если я в несколько часов исписал столько бумаги и был при этом счастлив, то почему бы такое занятие не обернуть в настоящее дело, не заниматься им радостно и легко?» [Пришвин 1989: 81].
Призвание пробуждает у человека жажду жизни, «чувство жизненной всюдности» (выражение М. Пришвина), способность к выживанию в самых тяжёлых, невыносимых условиях. В. Франкл, в молодости выдержавший заключение в нацистском концлагере, писал: там «можно было наблюдать, что те, кто знал, что есть некая задача, которая ждёт своего решения и осуществления, были более способны выжить» [Франкл 1982: 119].
Третий критерий призвания – достижение мастерства в любимом виде деятельности. Г. Г. Шпет писал: «Вот подлинно европейская идея софии – мастерство в том, за что берёшься» [Литературная газета, 1990].
Четвертый критерий призвания – интерес людей к призванному. Человек, который обрёл своё призвание, интересен другим – своей увлечённостью, глубоким пониманием того, чем он занимается, сознанием служения, деятельной самоотдачей. Такой человек как магнитом притягивает к себе других. Завоевание симпатии людей происходит как бы само собой, без каких-либо специальных усилий.
Пятый критерий призвания выражается в социальной значимости решаемой человеком смысложизненной задачи. Человек ощущает полезность исполняемого им дела и, как правило, встречает благодарность со стороны людей. Не во всех случаях это «полезное свойство» призвания может быть использовано самим человеком, поскольку деятельность осуществляющего своё призвание не всегда находит признание у его современников и ближайших потомков. Но в любом случае призвание является ответом на конкретную социально-историческую потребность, которую призванный тонко ощутил.
Аксиология призвания. Призвание – это ценность сама по себе. Благодаря призванию человек воспринимает себя в качестве единственного, неповторимого, значимого, то есть у него актуализируется личностное самосознание. В призвании человек обретает особый опыт, в котором заключается сознание «своей личной ценности, своей уникальности и, вместе с тем, своего единства с мирозданием» [Джуссани 1991: 93–94]. Через призвание реализуется потребность индивида в персонализации. Призвание формирует у человека чувство тождественности, которое Э. Фромм определил как «переживание, позволяющее человеку с полным основанием сказать: я – это Я, то есть активный центр, организующий структуру всех видов моей реальной и потенциальной деятельности» [Фромм 1993: 282].
Призвание открывает человеку доступ к чувству личной свободы. «Быть свободным – это значит быть верным самому себе, не изменять своему назначению» [Аббаньяно: 157].
Призвание значимо и своей способностью делать человека счастливым. С. Цвейг, выражая не только своё жизнечувствие, писал: «Счастлив художник, нашедший тему и форму, которые позволяют ему с гармоничной полнотой проявить все свои дарования» [Цвейг 1999: 105].
Но призвание – это и великое утешение, спасительная сила во времена бед, несчастий, потерь. По словам Б. Пастернака, перевод «Гамлета» был для него «совершенным спасением от многих вещей, особенно от маминой смерти» [Пастернак 1990: 45]. В исключительных бытийных ситуациях призвание может стать всеобъемлющей компенсацией. А. Перрюшо писал о Тулуз-Лотреке: «Живопись была для него всем: и времяпрепровождением, и убежищем, и способом обмануть своё жизнелюбие» [Перрюшо 1990: 35].
Призвание – отношение. Коммуникативное значение призвания состоит в том, что человек «не может реализовать своё назначение только для себя, осуществление им своей задачи обязательно включает его в отношения с другими людьми» [Аббаньяно: 156]. А. де Сент-Экзюпери видел величие любой профессии в том, что она объединяет людей. Призвание обладает воспитательным (в широком смысле этого слова) потенциалом. Тем, что человек обретает самого себя подлинного, он помогает другому лучше осознать себя. В данном аксиологическом аспекте проявляется естественная тенденция взаимоподдержки, в соответствии с которой каждый объективно выигрывает от того, что другой обнаруживает своё призвание. Однако некоторые проявления человеческой активности – зависть, стремление к славе, власти – мешают реализации этой тенденции в полной мере. Но если, по мысли Т. Манна, человек относится к своему Я «как к культурной миссии и трудится в поте лица своего, чтобы эту миссию осуществить, он не может не оказать воспитательного воздействия на человечество» [Апт 1972: 193].
Нравственное значение призвания явственно осознаётся в русле поисков человеком этических оснований своего бытия. Моральным признаётся выполнение своей смысложизненной задачи, верность своему предназначению. Предельно четко это сформулировал Н. Бердяев: «Творческая мораль есть мораль призвания, она утверждает нравственный смысл призвания, она знает лишь неповторимые индивидуальные пути» [Бердяев 1994: 254–255]. Эту же идею почти афористически выразил доктор Риэ из романа Альбера Камю «Чума»: быть честным – это значит делать своё дело.
В свете такого подхода обнаруживаются новые аспекты понятия греха. З. Миркина вполне обоснованно утверждает, что «грех – в навязывании другому не его задачи», а «каждая настоящая задача открывает в человеке великое сердце» [Миркина 1993].
Призвание таит в себе религиозный смысл, выступая способом связи человека с тем, что абсолютно, безусловно, запредельно и священно. Осуществляя свою смысложизненную задачу в повседневной деятельности, «человек начинает чувствовать себя орудием высших сил» [Ильин 1993: 320] и обретает тот или иной творческий опыт, который, по мысли Н. Бердяева, является особым религиозным опытом [Бердяев 1994: 122]. Поэтому через призвание может происходить одухотворение человека, зависимое, конечно, от условий и принципов осуществления призвания.
История из жизни известного русского композитора Александра Алябьева ярко показывает призвание в качестве особой, живой силы, которая прорывается на помощь человеку из глубин его существа. 24 февраля 1825 года во время карточной игры в доме Алябьева произошла серьёзная ссора. Через несколько дней один из её участников скончался. Его родственники обвинили Алябьева в совершении действий, которые повлекли за собой смерть. Судебное разбирательство длилось почти три года. В январе 1828 года Алябьеву был вынесен суровый приговор – ссылка в Сибирь. Это был тяжёлый удар, ибо он не был виноват в той мере, которая бы соответствовала наказанию. Но у него хватило мужества и силы воли не показать публично, насколько потряс его этот несправедливый приговор. Когда же Алябьев остался один в своей тюремной камере, силы покинули его, и он на какое-то время потерял сознание. Однако даже в такую тяжёлую для него минуту, когда он убедился, что вся дальнейшая жизнь его сломлена, в его сознании молниеносно мелькнула тема народной песни «Слава», но в минорном, скорбном её претворении. «Приведёт ли Бог написать её в мажоре?» – задал он себе вопрос. И мысль о работе (призвание писать музыку) не позволила композитору впасть в тяжелую депрессию [Доброхотов 1966: 75 – 76].
Обнаружение и осуществление призвания придаёт человеческой жизни красоту, которая добавляется к реальности бытия. Следовать своему призванию – значит быть прекрасным человеком и творить красоту.
Типология призвания. Мир человеческих призваний удивительно разнообразен. Но это многообразие поддаётся типологизации. Можно выделить три основных типа призвания. Во-первых, это – профессиональный тип, для которого характерно обретение человеком своей смысложизненной задачи в определённой профессии. Во-вторых, это – внепрофессиональный тип, который характеризуется тем, что профессия является источником средств существования человека, при этом смысложизненную задачу он осуществляет в сфере свободного времени. И, в-третьих, это – сверхпрофессиональный тип, проявляющийся во всём образе жизни, который становится той или иной формой подвижничества.
Путь к призванию. Главный практический вопрос концепции призвания состоит в том, как человеку найти свою смысложизненную задачу. На её поиск у разных людей уходит различное по продолжительности время. Но в большинстве случаев путь к призванию включает несколько основных этапов. Первый этап – пора мечтаний; период поиска «своего» вида деятельности, своей задачи в этом виде деятельности. Поскольку поиск призвания может быть достаточно долгим, во время продвижения к своей смысложизненной задачи человек вынужден заниматься и той работой, которая решает проблему жизнеобеспечения. Эту работу человек должен рассматривать как послушание, выполнение которого является условием обретения призвания.
Другое очень важное условие – формирование воли к призванию. Все, кто находил дело своей жизни, такой волей в той или иной мере обладали. Как показало наше исследование, исключительно мощная воля к призванию сыграла решающую роль на сложных жизненных путях Г. Х. Андерсена, Ф. М. Достоевского, А. Швейцера.
Ещё одно условие обретения призвания – методичность. Реализация этого условия может быть не всегда до конца осознаваема или, напротив, может быть выстроена вполне рационально, то есть выражаться в разработке специальных жизненных программ, построении планов. В любом случае призвание – постоянный и активный поиск своей задачи в плане всей жизни.
На пути к призванию человек формирует свой индивидуальный вариант образования, в котором особую роль играет самообразование. Оно даёт человеку то, что отсутствует в традиционном образовании и без чего невозможно обнаружение и последующее решение своей смысложизненной задачи. А. Эйнштейн, например, «полностью использовал студенческие годы для своего образования – прежде всего путём самостоятельных занятий, которые были ему больше по душе, поскольку он предпочитал осваивать научные проблемы, подолгу размышляя над ними, а не слушать и записывать лекции» [Гернек 1979: 26].
Путь к призванию – это и самоопределение в плане понимания пределов своих возможностей. Вне такого понимания невозможно ожидать подлинной плодотворности. С. Моэм писал: «Я установил пределы своих возможностей и, как мне казалось, выбрал единственно правильный путь – стремиться к максимальному совершенству в этих пределах» [Моэм 1986: 66–67].
Принципы поиска призвания. На пути человека к своей смысложизненной задаче определяющее значение имеет реализация принципов поиска призвания. Направляющим принципом поиска своего призвания является следование внутреннему зову, глубинному чувству любви к чему-либо. Этот принцип предполагает также и отказ человека от действий, противоречащих его основополагающим ценностям и ориентациям.
Проявления данного принципа различны. Показательно поведение Гёте в 1765 году, когда он приехал в Лейпциг для изучения в университете юридических наук. Он уже тогда предчувствовал своё поэтическое призвание. Поэтому для него было естественно заняться филологией и литературой. «И поскольку то, что могли дать Гёте юридические науки, очень скоро оказалось явно недостаточным, а другие лекции тоже разочаровали его и наскучили ему, у юного студента оказалось достаточно времени, чтобы следовать собственным склонностям» [Конради 1987: 72]. А у Фридриха Ницше, например, уже с раннего детства «было инстинктивное влечение к письменной речи, к видимой мысли» [Галеви 1991: 11–12].
Следование внутреннему зову чаще всего предстаёт как занятие деятельностью, которая интересует человека. Карла Роджерса в период обучения в Теологической семинарии привлекли занятия по психологии и психиатрии. Он начал посещать больше курсов лекций в Учительском колледже Колумбийского университета. Постепенно он втянулся и в практическую работу в детской клинике. К. Роджерс вспоминал: «Меня привлекла работа по оказанию психологической помощи детям так, что постепенно и безболезненно я перешёл в другую область – направляющей помощи детям – и начал считать себя клиническим психологом. Это была ступенька, на которую я легко взошёл, подчиняясь скорей не чёткому сознательному выбору, а лишь идя вслед за деятельностью, которая меня интересовала» [Роджерс 1994: 49].
Следование внутреннему зову в форме чёткого сознательного выбора осуществил Бертран Рассел, приняв в середине 1890-х годов решение, определившее всю его жизнь. В «Автобиографии» он пишет: «Примерно в то же время обрели форму и мои интеллектуальные стремления. Я решил не замыкаться в рамках той или иной профессии, а писать. Хорошо помню холодный, ясный день ранней весны, я хожу по Тиргартену и строю планы. Я задумал тогда написать серию книг по философии науки: от чистой математики до физиологии, и ещё одну серию – по социальным вопросам, в надежде, что обе в конце концов соединятся и образуют синтез теоретический, и практический. План этот был продиктован главным образом гегелевскими идеями; тем не менее впоследствии я сколько мог придерживался его. То была важная минута выбора жизненных целей» [Рассел 2000:139].
В ситуации конкуренции двух устойчивых стремлений на первый план выходит «принцип параллельности» в занятиях несколькими видами деятельности. Известный деятель французской культуры Альбер Руссель с отроческих лет был во власти двух увлечений – моря и музыки. После окончания парижского лицея он поступает в Высшую военно-морскую школу, но не забывает и о музыке. Так, например, отбывая практику на парусном фрегате в плавании по Атлантике, он организует из гардемаринов небольшой оркестр и любительский хор, сопровождающий музыкой воскресную мессу. Став офицером, он совершает длительное плавание по дальневосточным морям, во время которого создаёт свои первые инструментальные сочинения. И только в 25 лет А. Руссель делает выбор, жертвуя военно-морской службой ради музыки [Филенко 1983: 17].
Последовательная реализация данного принципа может привести человека к открытию того факта, что у него не одно, а два призвания, как, например, у А. Бородина (химия и музыка) или у Ц. Кюи (военное дело и музыка). Так, Ц. Кюи уже в годы учёбы в Главном инженерном училище постепенно формировал у себя умение сочетать занятия столь разнородными видами деятельности, как военное дело и музыкальное искусство [Назаров 1989: 20].
При отсутствии достаточно выраженных желаний, стремлений или чувства предпочтения чего-либо по сравнению со всем остальным может быть применен принцип многовариантной активности. Суть этого принципа состоит в проявлении поисковой активности одновременно или последовательно на нескольких направлениях, одно из которых может привести человека к его призванию. М. М. Пришвин после получения в Германии высшего образования вернулся в Россию и, наряду с занятиями разными видами повседневной деятельности, начал «вести что-то вроде дневника, записывая не одни полюбившиеся народные обороты речи, но и размышления о жизни, природе, человеке. Так постепенно накапливались и сходились умение видеть людей и природу, знание народной речи и поиски точного слова, способного дать вторую жизнь увиденному (…) Пока это не осознавалось как призвание, но, параллельно с основными делами, стало любимым занятием» [Мотяшов 1971: 32].
Чтение является одним из существенных вариантов поисковой активности. Хескет Пирсон, будучи британским солдатом, ожидая отправки домой из Багдада на исходе первой мировой войны, прочитал книгу Литтона Стрэйчи «Знаменитые викторианцы». Он был так очарован ею, что прочёл её подряд трижды. «Это указало мне мою судьбу», – вспоминал он позднее. До войны он был актёром, по возвращении на родину стал биографом [Померанцева 1987: 13].
Многовариантная активность может привести к развитию многогранной личности, осуществляющей несколько призваний. Такой многомерной творческой личностью является Говард Бютен. Он родился в Детройте в начале 1950-х годов. Всю жизнь, по его словам, он пытался найти настоящее дело. Брался за многое, и то, что получалось, осваивал вполне профессионально. Так, например, овладев психологией, он занялся лечением детского аутизма, а полюбив литературное творчество, стал настоящим писателем. Его романы выходили большими тиражами как на английском языке, на котором он пишет, так и на французском. С середины 1970-х годов Говард Бютен посвятил себя клоунскому искусству. Он блестяще владеет техникой клоунады. Буффо – это персонаж, созданный им. Буффо способен совершать чудесные перевоплощения, виртуозно двигаться, показывать фокусы, играть на музыкальных инструментах, изображать пантомиму [Буффо и его буффонады 1990: 6].
Предельно конструктивную роль на пути к призванию играет принцип совершения жизнетворческих акций, которые представляют собой поступки, меняющие человеческую жизнь в сторону её большей плодотворности. История культуры содержит немало подобных поступков. Например, в 1893 году двадцатитрёхлетний студент юридического факультета Петербургского университета Александр Бенуа прочитал первый том истории мировой живописи ХIХ века Рихарда Мутера и предложил ему себя в качестве автора главы о русской живописи, не предусмотренной планом издания. Свободное владение немецким языком позволило ему выполнить эту заявку: краткий «конспект» Бенуа-Мутера был включён в данное издание. В результате, во-первых, русская живопись ХIХ века практически впервые была осмыслена в контексте истории мировой живописи, а, во-вторых, А. Бенуа сделал серьёзный шаг на пути к своему призванию, в структуре которого органичным компонентом стала искусствоведческая деятельность [Эткинд 1989: 43].
Мощным принципом обнаружения своего призвания является отождествление себя с людьми, близкими по внутреннему складу. Т. Манн осознал это в форме понимания необходимости поиска тех, кто заряжает нас силой, свежестью, радостью созидания. На самого Т. Манна, его тягу к литературному творчеству огромное стимулирующее воздействие оказали оперы Р. Вагнера. Они наполнили его «страстным, завистливо-влюблённым желанием сделать что-либо подобное хотя бы в малом и тихом» [Апт 1972:73].
Творческое использование случая представляет собой следующий принцип поиска призвания. Иллюстрацией такого отношения к случаю может послужить жизнь Б. Л. Смирнова. В 1917 году двадцатипятилетний врач Борис Смирнов в Киеве на перроне вокзала случайно нашёл оброненный кем-то санскритско-русский словарь. Нужный поезд пришёл только через три дня, к тому времени Б. Смирнов выучил первую сотню слов санскрита. Когда через несколько лет ему в руки попал том древнеиндийского эпоса «Махабхараты», изданный в Индии, Смирнов с удивлением обнаружил, что почти свободно вчитывается в санскритский текст. Это открытие в значительной мере определило дальнейшую жизнь Б. Смирнова: он продолжал заниматься медициной, став автором ряда исследований по неврологии и нейрохирургии, а в переводе на русский язык «Махабхараты» он нашёл своё второе призвание. В 1950-х годах вышло несколько томов «Махабхараты» в переводе Б. Л. Смирнова.
Среди других важных принципов поиска человеком своего призвания – использование игровых форм поведения; понимание направляющего смысла страдания; принятие ситуации такой, какова она есть, и другие. Исследование обширного круга биографий и автобиографий доказывает, что человек, осознано использующий в своей жизни изложенные выше принципы, последовательно приближается к своей смысложизненной задаче. Обретая её и осуществляя своё призвание, он формирует основу собственной целостности.
Некоторые выводы. Конечно, установленные в ходе исследования биографий выдающихся людей закономерности между призванностью (её наличием или отсутствием) и качеством жизни, удовлетворенностью ею и плодотворностью жизненных усилий, могут быть лишь в некоторых отношениях распространены на тех, кто обнаружил в себе призвание к педагогической профессии. Чтобы снять с себя возможные обвинения в несопоставимости сравниваемых образов и стилей жизни, выделим, используя процедуру абстрагирования и идеализации, универсальные компоненты призвания.
О наличии призвания к той или иной профессии свидетельствует готовность человека заниматься любимым делом неотрывно многие часы подряд без усталости или с быстрым восстановлением сил во время отдыха. Напротив, невозможность делать то, к чему призван, угнетает и разрушает человека, приводит к эмоциональному выгоранию, обессмысливает все жизненные усилия.
То, к чему человек призван, дается ему особенно легко. Человек действует эффективно и при этом, как бы – «играючи».
Люди «тянутся» к человеку, уже обретшему призвание (осознавшему это), они влекутся и к тому, кто чувствует наличие некоторой призванности к легко дающемуся, вселяющему радость фундаментальному призванию. Человек призванный интересен людям, поскольку концентрация на чем-то одном достаточно быстро сообщает глубину и всесторонность его познаниям, совершенство – умениям и навыкам.
Призванный человек нравственен, поскольку испытывает благодарность к миру, ему нет нужды делать людям зло, мстя за отсутствие смысла в жизни. Он не изводит себя пустым досадованием о несовершенстве мира, о неправильных правительственных решениях и действиях, о недалёкости или равнодушии окружающих его людей.
Призванный человек красив, поскольку чувство внутренней гармонии придаёт его облику классические ясность и простоту, внутреннее спокойствие освещает его лицо, а уверенность в правильном жизненном пути сообщает слаженность всем его движениям.
Призвание обязательно сделает человека богатым. Талантливо, качественно и быстро сделанная работа (официальная и вне учреждений) будет вызывать у людей желание щедро отблагодарить умелого человека. При этом доброе имя, высказанные вслух или мысленно произнесенные пожелания здоровья и долгих лет жизни, получаемые от окружающих, также входят в понятие богатства.
Список литературы Философия и культурология призвания
- Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода//Вопросы философии. 1992. № 8.
- Апт С. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972.
- Бердяев Н.А. О назначении человека. Париж: Современные записки, 1931.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества//Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Лига, Искусство, 1994. Т.1.
- Буффо и его буффонады//За рубежом. 1990. № 4.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Вишневский С.Ю. Призвание как социокультурная проблема: историко-социологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. Екатеринбург, 2006.
- Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. Санкт-Петербург -Москва: Издание М.О.Вольфа, 1911. См. также: URL: http://www.nietzsche.ru/biograf/biografia/galevi-nietzsche (дата обращения: 26.02.2017)
- Гернек Ф. Альберт Эйнштейн. М.: Мир, 1979.
- Гёте И.В. Собр. соч. в 10 томах. Т.3. М., Художественная литература, 1976.
- Голосовкер Я. Э. Интересное//Вопросы философии. 1989. № 2.
- Грифцов Б. Психология писателя. М.: Художественная литература, 1988.
- Джуссани Л. Путь христианского опыта. М.: Христианская Россия, 1991.
- Доброхотов В. Александр Алябьев. М.: Музыка, 1966.
- Ильин И.А. Наши задачи//Юность. 1990. № 8. С. 50 -69.
- Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.
- Конради К. О. Гёте: Жизнь и творчество. В 2 т. Т.1. М.: Радуга, 1987.
- Кочнев В. Януш Корчак. М.: Радуга, 1991.
- Литературная газета. 14.02.1990.
- Миркина З. О духовной поэзии//Литературная газета. 11.08.1993.
- Мотяшов И.П. Михаил Пришвин. М.: Московский рабочий, 1971.
- Моэм С. Избранные произведения. Т.1. М.: Радуга, 1986.
- Назаров А.Ф. Цезарь Антонович Кюи. М.: Музыка, 1989.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: Аст, 2016.
- Пастернак Б.Л. Из письма Л.О. Пастернаку от 14 февраля 1940 г.//За рубежом. 1990. № 7.
- Перрюшо А. Жизнь Тулуз-Лотрека. М.: Радуга, 1990.
- Померанцева Г.Е. Биография в потоке времени. М.: Книга, 1987.
- Пришвин М.М. Творить будущий мир. М.: Молодая гвардия, 1989.
- Рассел Б. Автобиография//Иностранная литература. 2000. № 12.
- Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, Универс, 1994.
- Свасьян К.А. Гёте. М.: Художественная литература, 1989.
- Советская культура. 26.01.1989.
- Филенко Г. Французская музыка первой половины ХХ века. М.: Музыка, 1983.
- Франкл В. Поиски смысла жизни и логотерапия//Психология личности. Тексты. М.: МГУ, 1982.
- Фромм Э. Революция надежды//Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. С. 200 -286.
- Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. Праздник, который всегда с тобой. М.: Правда, 1988.
- Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М.: Аст, 1999.
- Чехов А.П. Собр. соч. в 8 томах. Т.6. М.: Правда, 1970.
- Шабалкина Е.Е. Призвание ученого как философско-методологическая проблема. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Ульяновск, 2002.
- Шутова Е.А. Призвание человека: онто-гносеологическое исследование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Челябинск, 2011.
- Эткинд М.Г. А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца ХIХ -начала ХХ века. Л.: Искусство, 1989.