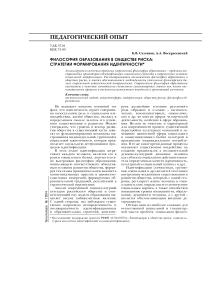Философия образования в обществе риска:стратегии формирования идентичности
Автор: Султанов Константин Викторович, Воскресенский Алексей Александрович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Педагогический опыт
Статья в выпуске: 1 (30), 2014 года.
Бесплатный доступ
Аксиологический подход, концептосфера, модернизация, общество риска, философия образования
Короткий адрес: https://sciup.org/14031693
IDR: 14031693 | УДК: 37.01
Текст статьи Философия образования в обществе риска:стратегии формирования идентичности
Terra Humana ¹ 1’2014
Не вызывает никаких сомнений тот факт, что идентичность играет совершенно колоссальную роль в социальном взаимодействии, жизни общества, являясь в определенном смысле залогом его успешного существования и развития. Можно утверждать, что уровень и вектор развития общества в существенной части зависят от функционирования механизма выстраивания индивидуальной, групповой и социальной идентичности, которая предполагает каузальную детерминацию процессов идентификации.
В этом плане идентификация затрагивает каждого человека, включая его в рамки социального бытия, контекстуально выстраивая философию образования, позволяющую соответствовать объективным условиям развития общества, формируя тем самым принципиальную важность коммуникативных практик и ценностносмысловых измерений, формируемых образовательной традицией, реализуемой в стратегической перспективе.
Анализ современной социокультурной ситуации российского общества и соответствующей ему модели образования выявляет весьма амбивалентные явления. С одной стороны, мы наблюдаем существенно возросшую неопределенность и поливариантность идентификационных и образовательных стратегий, констати- руем дальнейшее усиление различного рода «обрывов» и «сломов» – аксиологических, коммуникативных, символических и др. во многих сферах человеческой деятельности, особенно в сфере образования. Нельзя не отметить и характерный для современности процесс существенной перестройки культурных оснований и замещение ценностной сферы социального и коммуникативного бытия культурой и практиками индивидуального потребления. В то же самое время данные процессы оказывают существенное воздействие на создание предпосылок к положительной духовно-культурной динамике человека как субъекта социального действия и носителя определенных качеств (креативность, культурный и социальный капитал и др.).
Идентификация (личностная, групповая, социальная и др.) является тем самым внутренним механизмом существования и развития общества, который, с одной стороны, регулирует жизнь человека в социальном плане, определяя его соответствие социальным нормам, а также способствуя повышению уровня осознанности, образования, духовности человека, а с другой – является обусловливающим внешние детерминанты.
Отсюда одна из наиболее сложных для отечественной социальной и гуманитарной мысли проблем: социальная филосо-
* Исследование поддержано грантом РФФИ 13-06-00775а «Тинейджеры в обществе риска: социокультурная аналитика идентификации и самоидентификации».
фия, равно как и философия образования в современном обществе не могут однозначно определить факторы устойчивого развития общества. В качестве наиболее успешного проекта создания объяснительной модели можно упомянуть социологическую теорию функционализма (Р. Мертон, Т. Парсонс и К. Девис).
В основе их подхода заложено определение так называемых частей общества, а также возможности эксплицировать их положительные и отрицательные функции, что позволит представить общество как целостный организм. При этом попытки выстроить философские обобщения и на их основе сформировать вектор стратегического развития также являются весьма сложным делом, что связано с существенными проблемами внутри философского знания.
Значительные изменения, усложнение концептуальности философской мысли, деонтологизация субъекта рациональности, постоянная инверсия идеалов и типов субъективности, колоссальная множественность одновременно сосуществующих стилей, дискурсов, языков описания, приводят к многочисленным попыткам объяснения проблем, характерных для философской и образовательной мысли XXI столетия. Доминирование естествознания и безусловное господство позитивистского подхода в науке и философии XX века превратило субъекта социальных процессов в лицо без образа, без сколь бы то ни было определенных сущностных или даже экзистенциальных границ, поскольку ни в естествознании, ни в позитивизме субъективность, по сути, не определена и не зафиксирована. Философская мысль, как общенаучное знание и основа образовательных процессов, переживает наиболее значительный и болезненный переворот за всю свою историю: философия вынужденно отказалась от претензии на всеобъемлющее знание, отдала наукам конкретно-предметные сюжеты, а своим предметом избрала смысл жизни, а также социокультурные факторы и детерминанты жизни человека. При этом парадоксальным образом сосредоточенность философии на антропологической проблематике также привела к исчезновению идеи и образа человека как цели и стратегии формирования идентичности, являвшейся основанием европейской культурной и образовательной традиции в течение длительного времени.
Вместо ответа на вопрос, что такое человек и какие качества этого социального субъекта будут востребованы сегодня, современная философская мысль ищет возможности и стратегии формирования этих предметов, осуществляемых каждый раз в рамках контекста. Так, Ж. Нанси говорит о бессмысленности поисков определений человека. А все те сущности, которые ранее приписывались человеку, исчезли, исчерпали свои пределы, следовательно, никакой сущности у человека нет. В работе «Слова и вещи» М. Фуко провозгласил тезис смерти субъекта: «человек исчезает, умирает, на место индивида становятся разнообразные, безличностные потоки желания» [5, с. 76]. Человек утрачивает целостность, о нем уже нельзя говорить как об органическом целом или как о субъекте социальных процессов.
Безусловно, помимо констатаций «смерти субъекта», данный подход позволил выявить досубъективные и интерсубъективные реальности идентичности как механизма социализации. С другой стороны, сегодня мы наблюдаем деонтологизацию философского субъекта – субъективность потеряла рациональное основание и свою преемственность с европейской культурной традицией. Можно выделить две основные стратегии, сложившиеся в философской мысли общества риска. Одна заменила деятельностную и социальную природу сознания и субъективности на досубъективные нерефлексивные деятельностные начала: жизнь, волю, производственные отношения, бессознательное, коллективное сознание, институты власти и обмена. Другая стратегия обратилась к конституированию (порождению) субъективности с помощью выразительной энергии языка и описанию субъективности методами философской герменевтики или к конституированию субъективности посредством интерсубъективности и культуры.
В этом плане в условиях современного общества образ субъективности, как способности отличения «я-другой», претерпевает ряд метаморфоз. Мир современной социальной коммуникации, где творчество превратилось в креативность, рассчитан на человека неопределенного образа, призванного подстраиваться к постоянно меняющемуся способу потребления информационных и знаковых систем. Как известно, XX век отошел от классических определений человека, пытающихся зафиксировать и понять его сущность, заменяя их все более и более экзистенциальными проявлениями, описанием пороговых состояний человека в различных экстремальных условиях, поиском пограничных его состояний и предельных проявлений. Как утверждает Х. Плесснер: «Человек сам и есть граница».
Если вспомнить классическое определение человека классиками экономической теории как homo economicus, то становится очевидно, что на сегодняшний день эта концептуальная конструкция требует сущес-
Общество
твенной трансформации. Причиной тому служит изменившийся в новом веке тип рациональности, в частности, сформировавшийся тип ограниченной рациональности. Данный тип имеет под собой реальные основания, поскольку в связи с изменениями и усложнением технологий производства, существенным ростом единиц техники и ускорением обработки больших объемов информации произошло изменение самого общества, оно стало информационным.
Благодаря современным медиа практики субъективности оказались в лишенном ценностной вертикали пространстве повседневности, при этом в современном мире именно cубъективность и способность к са-мопозиционированию зачастую становятся тем фактором, который определяет эффективность различного рода вложений, инвестиций, и в этом плане – мощнейшим
Terra Humana ¹ 1’2014
стимулом развития экономического, политического и образовательного ландшафта региона и страны, между тем как система классической философии образования в своих основных чертах остается неизменной с момента своего появления на свет в XVIII–XIX столетиях в работах основателей этой дисциплины – Коменского, Песта-лоцци, Гербарта, Дьюи и др.
В этой связи представляется возможным сконцентрировать внимание на взаимосвязях между антропологическим и социоцен-трискими подходами к становлению нового типа общества и соответствующих ему общественных отношений, а также образовательных стандартов и подходов, не идеализируя при этом значения новой техники и технологий, которые выступают не более чем условием потенциальных изменений на уровне субъективности человека (образование как социальная технология?).
Вместе с тем важно отметить глобальный характер происходящих изменений, которые значительно сложнее, нежели просто становление информационного общества и переход к обществу знаний. При разработке моделей идентификации-самоидентификации необходимо учитывать всю палитру сосуществующих сегодня моделей и способов видения глобализации, которая не может быть сведена исключительно к ее западной разновидности. Поэтому глобальность современного мира мыслится различным образом в перспективах западной, российской, китайской, индийской, исламской и др. цивилизаций [4, с. 88–89]. Основные участники образовательного процесса в современном мире видят глобализацию сквозь призму тех цивилизаций, с которыми они самоидентифицируются и ценности которых они воплощают в своей повседневной ак- тивности. Таким образом, оказывается, что глобализация вовсе не представляет собой единый всегда и везде процесс, как подчас представляют его западные исследователи, а является своего рода противоречивым единством, определяемым социокультурными традициями, сохраняющими свои отличия в течение длительного времени.
В рамках теории «Общества риска» У. Бека мы можем увидеть ключевые следствия модернизации по «единому» сценарию.
Если XX век провозглашал идеалом в социальном плане равенство, то в настоящем, как мы можем констатировать, таким идеалом становятся «гигиенические потребности», и главная среди них – потребность в безопасности. Различные социальные технологии, равно как и само социальное проектирование, ориентируются сегодня не на максимизацию позитивных эффектов от тех или иных действий, а на минимизацию ущерба.
Таким образом, ориентация на гонку потребностей, характерная для общества конца XX столетия, сменяется сегодня ориентацией на их самоограничение.
Кроме того, нельзя не отметить, что в обществе риска появляются и весьма недвусмысленно заявляют о себе новые социальные силы, деятельность которых направлена на разрушение старых, традиционных, классических социальных систем – то, что У. Бек называет «общностями жертв риска».
При этом Бек отмечает, что для современного общества характерна не только психологическая проблематика восприятия и принятия риска, но и его социальная и «средовая» обусловленность. Социальный субъект принимает решение и действует исходя из ожиданий той референтной группы, которой он принадлежит.
Наконец, нельзя не отметить, что модернизация представляет собой процесс, теснейшим образом связанный с глобальными изменениями в сфере творчества, креативности, техногенеза, научно-технического прогресса и, таким образом, образовательной системы. Этот момент особенно актуален в связи с усугубляющимся научно-техническим отставанием современной России от других стран, а также невозможностью создания внятной миссии и определения ключевых стратегических целей всей системы образования в современной России. Здесь необходимо наметить оптимальную стратегию Российской Федерации в технологической и, в частности, в «знаниевой» гонке современного мира, который модернизируется таким парадоксальным образом.
Именно поэтому актуализация вопроса о европейском, азиатском или же евразийском пути развития России – это проблема вовсе не физико-географической принадлежности, а в первую очередь проблема концептологии, аксиологического пространства. После распада СССР и существенного изменения внешних границ образовалось огромное количество границ внутренних – региональных, па-радигмальных, ментальных, этнических, культурных, образовательных, непрерывно воспроизводимых различиями технологических и жизненных укладов прежде единого смыслового пространства Союза. В силу объективных социально-экономических и политических причин произошла инверсия внешних и внутренних границ, что сделало крайне актуальной задачу структурирования пограничного культурного, семиотического пространства. В этом плане рубежи эпох, крупные экономические, социальные, политические, мировоззренческие сдвиги в общественном сознании находят отражение в поведенческих актах и декларациях, в идеологии и практике образовательных систем, генерируя и направляя энергию социальных групп, отражая происходящие в социуме глубинные изменения, смену ценностных ориентиров, формируя траекторию будущего развития.
Одновременно стоит подчеркнуть, что в современном мире идентичность конструируется в первую очередь внутренними различиями, разграничениями социально-экономической среды и культурного пространства. Можно согласиться с В. Каганским, утверждающим, что «любая неоднородность ландшафта есть источник ресурсов в нем». В этом отношении построение в современных условиях философии образования делает совершенно необходимым концентрацию в точках пересечения своих силовых линий существенного символического (имагнитивного) капитала, которым надо уметь грамотно и эффективно распорядиться.
В условиях современного общества формирование идентичности, как способности интеграции и дифференциации «я-другой», претерпевает ряд метаморфоз. Со второй половины XX столетия внимание мировой философии к проблемам множественности, плюральности, неопределенности, самоорганизации существенно усиливается, и понятно, почему это происходит. Проблематика самоорганизации усложняется и перестает существовать в качестве исключительно методологического принципа, используемого философами, приобретая все более выраженную социо- культурную направленность. Здесь уместно вспомнить работы А. Бадью, А. Негри, М. Хардта, С. Жижека и др. исследователей актуализации принципов неопределенности и множественности в антропологическом, политическом и социальном пространствах. Иными словами, из «объекта» философского исследования контекстуально формируемая субъективность превращается в принцип, конституирующий жизненный мир человека. При этом социализация и самоидентификация главных участников образовательного процесса – молодежи, протекает в уникальных условиях, связанных с целым рядом причин: трансформацией постсоветского общества, углубления социально-экономического неравенства, кризисом основных институтов социализации – семьи и школы. Существенно возрастает роли СМИ и интернет-среды в современных обществах. Нельзя не отметить продолжающуюся «революцию потребностей» в подростковой среде, начавшуюся в середине 1980-х годов, которая в сегодняшних условиях порождает глубокую фрустрацию при условии невозможности их удовлетворения.
В этом смысле глобальные перемены в жизни российского общества создали уникальные механизмы формирования новых социогрупповых идентификаций сообществ, в силу чего в сознании молодых людей возрастает потребность соотнесения себя с чем-либо, что и приводит к тому, что социологи называют «идентификационной синдром», благодаря которому активизируется процесс социальной идентификации личности.
Новизна сегодняшнего социально-эко- номического состояния заключается в том, что в роли капитала, и это постоянно подчеркивается в современной научной литературе, выступает сам человек, а основным производимым продуктом – знания, знаковые различия, визуально-образная сфера. Данная модель экономики, в которой человек является и производителем, и потребителем, и рабочей силой одновременно, занимается научным знанием, языковыми играми, главная цель и продукт «креативной» цивилизации – избыток информации, образов и знаков.
В современном мире именно культурная среда становится ключевым фактором, определяющим эффективность различного рода вложений – инвестиций, и в этом плане – мощнейшим стимулом развития экономического, политического и образовательного ландшафта.
Констатация изменений на «сломе эпох» в обществе риска интересует нас
Общество
Terra Humana ¹ 1’2014
постольку, поскольку связана с реализацией соответствующего социокультурного идеала – создания общества, основанного на индивидуальных различиях – знаниях и компетенциях.
Таким образом, капитал начинает определяться как совокупность знаний, навыков, умений, компетентностей человека, расходы на овладение которыми (с помощью образования, переподготовки, повышения квалификации и т.д.) со временем могут приносить человеку существенную прибыль. Иными словами, капитал – это прежде всего инвестиции в себя самого. Все эти модели «нового видения» мира коренным образом влияют на появление в самом начале XXI столетия важнейших концептов эпохи фьюжн – креативной экономики и креативного капитала. Для характеристики концепции креативноэкономического общества представляется важным отметить следующие ключевые положения:
– место конфликта классической дихотомии «труд-капитал» занимает борьба знания и некомпетентности;
– характерной чертой современного общества является сдвиг от технико-технологического детерменизма к социокультурному телеологизму (от анализа причин на «входе» к максимизации эффекта на «выходе»);
– в основе трансформации социальнокультурных и образовательных систем лежит фактор знаний и технологий, связанных с их освоением.
Развитие экономических систем сегодня приводит в действие новые производительные силы, использующие индивидуальный, творческий, свободный труд, то есть частный, несводимый к абстрактному человеческому труду. Данный частный труд остается общественно необходимым, однако поскольку результаты этого труда несут в себе след индивидуальности автора, невозможно определить меру общественной необходимости, то есть определить результаты этого труда посредством стоимости, оценить его. Чем более интеллектуальным становится труд, тем труднее
Список литературы Философия образования в обществе риска:стратегии формирования идентичности
- Бурдье П. Формы капитала//Экономическая социология. Том 6. -2005, № 3. -С. 60-74.
- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий//Общественные науки и современность. -2001, № 3. -С. 121-139.
- Султанов К.В., Воскресенский А.А. Гуманитарные технологии: на пути к единому образовательном пространству//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 4. -С. 212-216.
- Султанов К.В., Воскресенский А.А. Стратегии понимания модернизации: инструментальная рациональность и альтернативные подходы//Общество. Среда. Развитие. -2013, № 3. -С. 88-92.
- Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1981-1982/Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. -СПб.: Наука, 2007. -677 с.
- Хардт М. Нерги А. Империя. -М., Праксис. 2004. -274 с.