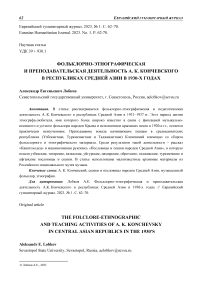Фольклорно-этнографическая и преподавательская деятельность А. К. Кончевского в республиках Средней Азии в 1930-х годах
Автор: Лобков Александр Евгеньевич
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается фольклорно-этнографическая и педагогическая деятельность А. К. Кончевского в республиках Средней Азии в 1931-1937 гг. Этот период жизни этнографа-любителя, имя которого более широко известно в связи с фиксацией музыкально- песенного и устного фольклора народов Крыма и исполнением крымских песен в 1920-е гг., остается практически неизученным. Преподавание вокала начинающим певцам в среднеазиатских республиках (Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане) Кончевский совмещал со сбором фольклорного и этнографического материала. Среди результатов такой деятельности - рассказ «Канатоходец» и машинописная рукопись «Пословицы и сказки народов Средней Азии», в которую вошли узбекские, татарские, казахские, уйгурские, памирские, ойротские, таджикские, туркменские и афганские пословицы и сказки. В статье использованы малоизвестные архивные материалы из Российского национального музея музыки.
А. к. кончевский, сказки и пословицы народов средней азии, музыкальный фольклор, этнография
Короткий адрес: https://sciup.org/147239995
IDR: 147239995 | УДК: 39
Текст научной статьи Фольклорно-этнографическая и преподавательская деятельность А. К. Кончевского в республиках Средней Азии в 1930-х годах
Около 15 лет своей жизни Аркадий Карлович Кончевский (1883–1969) посвятил собирательству крымского фольклора и популяризации музыки и песен народов Крыма посредством концертной деятельности. Любительская этнографическая деятельность Кончев-ского в 1923 г. получила высокую оценку и финансовую поддержку от наркома просвещения А.В. Луначарского. Важность и перспективность исследования музыкально-песенного фольклора Крыма была осознана и председателем Этнографической секции Государственного института музыкальной науки (ГИМН) Вячеславом Викторовичем Пасхаловым (1878–1951), включившимся в работу по теоретическому осмыслению музыкального стиля крымскотатарских песен и разработке принципов их гармонизации. С августа 1924 по март 1931 гг. Кончевский состоял научным сотрудником Этнографической секции ГИМНа.
В этот период заслуги Кончевского, с одной стороны, получили широкое признание, что подтверждается публикациями песенно-музыкальных сборников и концертной деятельностью, с другой стороны, стали появляются критические отзывы коллег-профессионалов, указывающих на существенные неточности в комментариях к песням и нотной записи ритмико-мелодической структуры [Лобков 2021]. Кончевский не мог не чувствовать растущего неприятия со стороны сотрудников Этнографической секции, тем более его работа «История Крыма по его песням», премированная еще в 1926 г. научным отделом Главнауки, на протяжении нескольких лет, в том числе и после доработки, не получала окончательного разрешения на печатание.
Около 1930 г. Кончевский стал подумывать о переходе из ГИМНа в Государственную академию художественных наук (ГАХН). Однако в 1931 г. ГИМН и ГАХН были повергнуты реорганизации, а Кончевский в последующие семь лет (с 1931 по 1938 гг.) будет работать в качестве педагога-вокалиста в республиках Средней Азии – Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. И хотя в специальном справочнике приводятся краткие сведения об этой работе Кончевского [Бернандт, Ямпольский 1974: 73], тем не менее среднеазиатский период деятельности Кончевского еще не становился предметом специального рассмотрения. Ряд материалов, помогающих прояснить историю жизни и деятельности Кончевского в этот период, хранится в архиве Российского национального музея музыки (РНММ).
Результаты исследования
Кончевский уволился из ГИМНа в марте 1931 г., незадолго до его закрытия, и вскоре занял место педагога пения в Высшем педагогическом институте в Фергане (Узбекская ССР)1. До этого Кончевский уже бывал в Фергане c концертной поездкой. Кроме того, в сборник «Напевы Востока» (1928), состоящий преимущественно из песен записанных Кончевским во время экспедиций в Крым, были включены три песни, не имеющие отношения к крымскому музыкальному фольклору и не содержащие указания имени информанта и места записи. Среди них узбекская песня «Любовь» с русским текстом и нотной записью [Напевы... 1928: 15]. Это свидетельствует о том, что у Кончевского уже до переезда в Фергану имелись какие-то контакты с представителями узбекской культуры.
В Ферганском пединституте он проработал с апреля 1931 г. по август 1935 г. В начале 1933 г. Кончевскому было присвоено звание доцента по кафедре языка и литературы. Помимо вокала он преподавал изобразительное искусство. Живописью он увлекался с ранних лет, а в годы учебы в Киеве и в Москве продолжал занятия в мастерских профессиональных художников. Именно временем пребывания в Узбекистане следует датировать картину Кончевского «Дворик слепых в Коканде», которую он перед переездом из Саратова в Харьков подарил в сентябре 1944 г. Саратовскому государственному художественному музею [Образ... 2015: 83]. В биобиблиографическом словаре художников СССР имеются указания и на другие картины Кончевского этого времени – «Мечеть в старой Бухаре», «Цементный завод в Кувасае», «Рынок в Самарканде», «Самаркандская мечеть Биби-Ханым», «Домик в Фергане», хотя их местонахождение на данный момент установить пока еще не удалось [Художники... 2002: 343]. Художественное творчество Кончевского продолжает оставаться неизученным.
На новом месте Кончевский возобновил свои этнографические исследования. Он пытался изучить узбекский язык, записывал на фонографические валики песни в Ферганской долине и собирал местный фольклор. В списке публикаций Кончевского имеется указание на опубликованный сборник 14 песен дошкольников с методической запиской (УзГИЗ, 1932)2, который, однако, пока обнаружить не удалось. В списке также указывается, что он разрабатывал пособие по музыкальному воспитанию детей «Использование дутара». Этому двухструнному народному инструменту Кончевский придавал важное значение при проверке музыкального слуха и музыкальной памяти у молодых певцов из коренных жителей среднеазиатских республик [Кончевский 1941].
Кроме того, он продолжал писать краеведческие рассказы, один из которых под названием «Канатоходец» был опубликован в журнале «Тридцать дней» в 1935 г. [Кончевский 1935]. Рассказ представляет описание базарного дня в Старом Маргелане.
Местный колорит задает широкое использование этнографических реалий (напр., «кек», «хауз», «бешик», «конграк», «дутар», «карнай», «дор», «лангар-чуп», «маскара» и др.) и фольклорных текстов (напр., пословица: «Хороший человек наслаждается ароматом цветов и песнями»). Основное внимание в рассказе сосредоточено на раскрытии характерных особенностей такого культурного феномена, как зрелище игры на канате («дор-уюн»). «Почтительное и сосредоточенное» отношение зрителей к игре на канате Кончевский объясняет тем, что дор-уюн несет в себе элемент сакральности, так как пророк Алия, который много воевал с неверными, «взял их неприступную крепость только тогда, когда протянул над крепостью канат, по которому войско Алия и ворвалось внутрь крепости» [Кончевский 1935: 65]. Таким образом, пророк оказывается покровителем канатоходцев, которые, в свою очередь, сами приобретают некий священный статус.
В описании Кончевского, дор-уюн – это самое настоящее синкретическое действие, включающее в себя музыкальное сопровождение трубачей-карнайчи, импровизации и шутки комедианта-маскаровоза (например, «Между двумя кибитками лежит заяц, а между твоими грудями, красавица, какие заложены драгоценности?»), серьезные стихи аксакала-распорядителя празднества и, конечно, акробатические трюки и танцы самого канатоходца-дорвоза. Аксакал и маскаравоз выступали не только в моменты передышки дорвоза, но также вступали с ним в разнообразные речевые действия. Так, при первом проходе по канату аксакал декламировал обязательный стих дорвоза: «Определение божие не может быть отменено. Крепкий канат порвется ли тысячью сил? Письмо на камне разве смоется дождем? Разве спасется бегством тот, кого настигнет смерть?» После каждого стиха аксакала доровоз отвечал: «Бали!» (так, истинно так!) [там же].
Конечно, стихи аксакала имели и важное пропагандистское воздействие. Если раньше, до революции, они отражали интересы бухарских эмиров («Самарканд – полировка лицу земли, Бухара – сила и мощь ислама. Не будь там Бахаотдина, стала бы Бухара домом неверных»), то сейчас, как замечает Кончевский, стихи зазвучали на новый лад: «Все взвесив, увидав, правительство произвело реформу. Товарищи Ленин сегодня отдал приказ, взял из рук богачей волю над землею. Этим путем пробудится доверие и сила бедняков...» [там же]. Понятно, что приводимые стихи о Ленине и коммунизме дань времени, но при этом Кончевскому удается раскрыть культурную важность площадного действа игры на канате. В этой связи интересно сравнить характеристику зрелища в Старом Маргелане в этнографическом рассказе Кончевского с более поздним описанием дор-уюна в Ташкенте, приводимого в статье Л. А. Авдеевой «Народный узбекский цирк» [Авдеева 1958].
Об энтузиазме этнографической деятельности Кончевского на новом месте свидетельствует тот факт, что за преобразование собора в Фергане в краеведческий музей в 1933 г. он был награжден почетной грамотой от Союза безбожников1.
С сентября 1935 г. по июль 1937 г. Кончевский работал педагогом пения и заведующим учебной частью Музыкального техникума в Ашхабаде (Туркменская ССР). В письмах к Виктору Михайловичу Беляеву (1888–1968), крупнейшему на тот момент специалисту по туркменской музыке, он жаловался на нехватку музыкальных кадров и просил направить ряд специалистов из Москвы1.
В 1937 г. Кончевский подготовил для Центрального дома художественного воспитания детей в Москве сборник детских песен различных народностей. Напечатан он, очевидно, не был. Сохранился краткий отзыв В. М. Беляева (от 28.08.1937, Москва): «Мелодически песни сборника Кончевского интересны и с этой стороны материал заслуживает внимания. Что же касается подлинности и точности записи приведенных в сборнике мелодий, то в этом отношении необходимо получить авторитетное суждение и заключение мест (Управлений по делам искусств и научно-исследовательских музыкальных и литературных учреждений). При переписке записей т. Кончевским допущены некоторые небрежности: неправильная группировка (№№15 и 16), по-видимому, неправильная расстановка вольт (№ 3), пропуск тактовой черты (№1). Иногда имеется неполный перевод текста, как во 2-м куплете № 10-го. В дунганских песнях №№ 15 и 16 нет оригинального текста, что затрудняет определение вида стиха при подготовке русского текста. Материал требует проверки» 2 . В рецензии от 25 августа 1937 г. на работу Кончевского «Песни Крыма» В.М. Беляев указал на ее любительский характер, публикация которой с научной точки зрения сомнительна, но возможна в качестве «интересного путевого дневника этнографа-энтузиаста»3.
В конечном итоге, ни первая, ни вторая работа Кончевского, отрецензированные Беляевым, опубликованы не были. Отметим также, что в обзоре Беляева за 1936 г., посвященном «строительству новой советской национальной музыкальной культуры» в среднеазиатских республиках, отсутствуют упоминания о деятельности Кончевского [Беляев 1936: 44–52].
Неудачи сопровождали Кончевского не только при попытках опубликовать свои песенно-музыкальные и этнографические работы, но и в педагогической деятельности. Если в 1936 г. Кончевский был награжден почетной грамотой за педагогическую работу с учащимися-туркменами, то в следующем 1937 г. начальник Управления по делам искусств Туркменской ССР Резаев отстранил его от работы.
История с отстранением получила широкий резонанс после заседания актива учреждений, входящих в систему Всесоюзного комитета по делам искусстве, отчет о котором был напечатан в газете «Советское искусство» в конце мая 1937 г. В частности был опубликован фрагмент выступления Резаева, в котором он обращал внимание на «вопиющее невнимание Всесоюзного комитета к работе местных самоуправлений», проявившееся в частности и в деле Кончевского: «Снятого мною с работы присланного из центра преподавателя пения Кончевского т. Керженцев дважды по телеграфу предлагал мне восстановить. Этот Кончевский совершенно дезорганизовал обучение туркмен пению. Раньше они умели великолепно петь свои национальные песни, теперь Кончевский терроризовал их учеными разглагольствованиями псевдопедагога. С моими телеграфными настояниями о необходимости убрать Кончевского т. Керженцев посчитаться не захотел. Понадобилось телеграфное вмешательство ЦК партии и Совнаркома Туркмении, но вопрос о Кончевском и до сих пор окончательно не разрешен. Разве это большевистское руководство и конкретная помощь местным управлениям?» [На собрании... 1937: 4].
После публикации в газете Кончевского, по собственному признанию, «стали сторониться». Лишь немногие из старых товарищей выступили в его защиту, среди них был в частности С. А. Бугославский. По словам Кончевского, он «судился и выиграл»1.
Отголоски разыгравшейся полемики можно заметить в докладе Кончевского о «Подготовке национальных кадров певцов в Средней Азии», сделанном на Всесоюзной конференции по вокальному образованию (прошедшей в Москве с 25 января по 3 февраля 1940 г.) 2 [Кончевский 1941]. В нем он описывает специфику работы с восточными начинающими певцами-вокалистами и раскрывает ряд приемов по постановке голоса и правильного дыхания. В конце он замечает: «Нередко приходится слышать вопрос: “А стоит ли насаждать европейскую культуру по обработке голоса, хотя бы научно обоснованную, среди народов Востока, не убивается ли этим та прелесть особого колорита, которая свойственная музыке данных народов?” Я убежденно отвечаю: “Не только не стоит, но даже необходимо”» [Кончевский 1941: 117].
Тем не менее после произошедшего конфликта Кончевскому пришлось из Ашхабада уехать в соседнюю Таджикскую ССР, где с сентября 1937 г. по июль 1938 г. он также работал педагогом пения и заведующим учебной частью Музыкального училища в Ленинабаде (бывш. Ходжент)3.
Причины, побудившие Кончевского оставить работу по подготовке кадров национальных певцов, остаются гадательными. C августа 1938 г. по август 1944 г. Кончевский работал педагогом пения и заведующим вокальным отделением Музыкального училища в Саратове, затем с 1944 г. по 1946 г. преподавал в Суворовском училище в Харькове и с 1946 г. по 1949 г. в Музыкальном училище в Дрогобыче, пока в 1949 г. окончательно не осел в Виннице.
Именно на Западной Украине у него появилось время приступить к обработке накопленного этнографического материала. Возобновить занятия крымским фольклором Кончевский после депортации крымских татар и других народов Крыма в 1944 г., само собой разумеется, не мог. Именно так следует понимать его сожаление, высказанное в письме к Пасхалову из Дрогобыча в 1946 г.: «искренняя печаль, что наши материалы по Крыму не пригодны сейчас!!»1.
Оставался неразобранным среднеазиатский фольклор: «Просматриваю материалы, вывезенные из Средней Азии. Пословицы (больше 200). Сказки. Забавные и интересные для исследования, т. к. многие сюжеты наших русских сказок – иногда прямо удивляют своей общностью. Закончил печатать на машинке»2. Затем начались поиски издательства. В 1948 г. Кончевский послал рукопись в Киев, но спустя три года он с горечью писал: «Я ничего не могу сделать со своими древними восточными сказками народностей Средней Азии, хотя рецензент из Союза писателей еще в 1940 г. признал материал “великолепным”» 3 . Через супругу Пасхалова Софью Самойловну Михайлову-Штерн (1879–1952), имевшую определенный вес в литературных кругах, Кончевский пытался пристроить свою рукопись в издательство в Москве. Однако и эта попытка не увенчалась успехом. В письме к Пасхалову Кончевский пишет: «А я грущу, т. к. сильное желание напечатать собранные мною в Средней Азии древние сказки народов Востока ни к чему не приводит. Из Художественного отдела Госиздата какой-то “умник” сообщил, что “материал не актуальный и ничего нет о колхозах”!!»4.
В РНММ хранится машинопись на 84 страницах одного из вариантов планируемой книги под названием «Пословицы и сказки народов Средней Азии. Записал этнограф Аркадий Кончевский»5.
Первая часть – «Пословицы».
Узбекские пословицы (от Атаджанова, г. Фергана; от Ардаширова и Атаджанова, г. Фергана; от Джамалии Кармышевой; от Саадат Норматовой из Андижана)
Татарские пословицы (от Саадат Норматовой, записанные в Андижане от ее бабушки-старухи 101 года)
Казахские пословицы (от Мухтара Джамаева из Андижана)
Уйгурские пословицы (Нурами Кармышевой из Кульджи)
Памирские пословицы
Ойротские пословицы и загадки (от Эри Тон-жан)
Таджикские пословицы (от Годая Шадиева, Ленинабад/бывш. Ходжент)
Вторая часть – «Сказки».
Узбекские сказки
-
1. О плешивом мальчике (от Истам Бабаевой из Андижана, узбекская старуха)
-
2. Обезьяна (от Черняховского, старика 70-ти лет, прожившего 40 лет в Ферганской долине)
-
3. Слон и мыши (от Черняховского)
-
4. Мудрец (от старика Ахмеда Надарова из Яр-мазара близ Ферганы)
-
5. Медвежий сын (от Норматовой, Андижан, от бабушки 101 г.)
-
6. Мальчик Джура (от Норматовой)
-
7. Сокол (от Саадат Норматовой)
-
8. Соловей и воробей (Андижан, от Барышниковой, которой эту сказку рассказал глубокий старик-узбек в 1933 г.)
-
9. Золото или разум (Андижан, от Ахмеджина, ему рассказывал старик-узбек Хоз Дада 75 лет)
-
10. Солаш Торхай (Андижан, от старика-узбека Азис-баба 92-х лет)
-
11. Ош (от Джураева из Ферганы, слышал от старика Ахметова)
-
12. Биби Сейшенбе (от Джамалии Кармышевой)
-
13. Палиджан (от Балтабаева из Маргелана)
-
14. Мургуммусама (от Ахмата Джураева, им не раз слышанная от глубокого старика Абас-бая, хранителя мазара Ходжа Исаф около г. Ош)
-
15. Ишак (от туркменки Сарры Факидовой, ей рассказывала ее старуха-мать 80 лет)
-
16. Эмин-бай (от Зары Газневой, рассказывала ей бабушка 70 лет в ауле Анау)
-
17. Зигбеу (от старика-туркмена Мурадова, около Ашхабада)
-
18. Счастливый сон (от Гяаши Курбановой, Ашхабад)
-
19. Три брата (от Эдеге Дадай, 80 лет)
-
20. Горе (от Эдеге Дадай, 80 лет)
-
20. Соловей (от Шамсудинова, в Фергане)
-
21. Рыбьи подарки (от Шамсудинова из Джаркента)
-
22. Крылатый конь (от Эдеге Дадай, Фергана)
Таджикские сказки
Туркменские сказки
Татарские сказки
Уйгурские сказки
Афганские сказки
Также в РНММ хранится часть рукописи Кончевского «Сказки Востока, преданья и легенды», содержащей сказки: «Крылатый конь». Афганская сказка (от Хасана Ризаева, Ашхабад), «Рыбьи подарки». Уйгурская сказка (от Шамсудинова, Джаркент), «Соловей». Уйгурская сказка (от Шамсудинова, Джаркент)1.
Заключение
Сведения о жизни и деятельности Аркадия Карловича Кончевского в 1930-е гг. в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане носят фрагментарный и противоречивый характер и, без сомнения, требуют дальнейшего уточнения. Имеющиеся в распоряжении материалы свидетельствуют, что в Средней Азии Кончевский вел активную преподавательскую и этнографическую деятельность. Однако его вклад в «культурное строительство» в среднеазиатских республиках до настоящего момента не получил надлежащего освещения. Оценки деятельности Кончевского со стороны его современников содержат значительный элемент критики как за «европеизацию» в обучении национальной манере пения, так и за небрежность и поверхностный дилетантизм суждений при анализе фольклорных материалов. Тем не менее, думается, что записанные Кончевским сказки и пословицы могут предоставлять для современных исследователей определенный интерес в сравнительно-историческом плане.
Список литературы Фольклорно-этнографическая и преподавательская деятельность А. К. Кончевского в республиках Средней Азии в 1930-х годах
- Авдеева Л. Народный узбекский цирк // Советский цирк. 1958. № 9. С. 13-14.
- Беляев В. Некоторые вопросы развития национальных музыкальных культур в среднеазиатских республиках // Революция и национальности. 1936. № 6. С. 44-52.
- Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке: Биобиблиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР: в 4 т. Т. 2: К - П. М.: Советский композитор, 1974. 313 с.
- Кончевский А. Канатоходец / Рис. А. Даран // Тридцать дней. 1935. № 8. С. 64-67.
- Кончевский А.К. Подготовка национальных кадров певцов в Средней Азии // Материалы Всесоюзной конференции по вокальному образованию (25 янв. - 3 фев. 1940 г.). М.-Л.: Музгиз, 1941. С. 116-119.
- Лобков А.Е. А.К. Кончевский и В.В. Пасхалов: из истории изучения музыкального фольклора Крыма // Традиционная культура. 2021. Т. 21. № 3. С. 161-173.
- Напевы Востока / Записал певец, ученый этнограф А. Кончевский; гармонизов. проф. С.Н. Василенко; перевод русским стихом дал С. Городецкий с приложением подлинных текстов. М.: МОНО. Музторг, 1928. 22 с.
- На собрании актива работников искусства Москвы. Доклад тов. П.М. Керженцева. Прения // Советское искусство. 1937. 29 марта. № 15 (361). С. 4.
- Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века. М.: Изд. дом Марджани, 2015. 124 с.
- Художники народов СССР. Библиографический словарь в 6-ти томах. Т. 5 (Кобозева - Коняхин) / гл. сост. и библиограф О.Э. Вольценбург; науч. конс. А.А. Федоров-Давыдов. СПб.: Академический проект, 2002. 360 с.