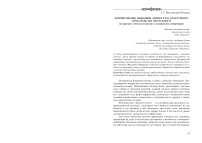Формирование языковой личности и культурного пространства обучаемого (на примере "женского письма" в австрийской литературе)
Автор: Железанова Татьяна Трифоновна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 1 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные особенности так называемого «женского письма», дается краткий экскурс в историю его формирования и выделяются его ключевые моменты. Аргументируется возможность привлечения произведений современных немецкоязычных писательниц (в частности, Ильзы Айхингер, Ингеборг Бахманн, Фридерике Майрекер) в качестве дидактического материала на занятиях по немецкому языку и лингвострановедению. Приводятся образцы заданий к текстам перечисленных авторов.
Пол, женское письмо, проблематика, эстетика, язык, телесность, субъективность, интерпретировать, сфера жизни, смешение дискурсов
Короткий адрес: https://sciup.org/14914382
IDR: 14914382
Текст статьи Формирование языковой личности и культурного пространства обучаемого (на примере "женского письма" в австрийской литературе)
Исторически феминизм возник в связи с женским движением, преследовавшим конкретные политические цели: изменение существующего положения вещей. Требованиями женщин были: равноправие, достоинство, свобода в принятии решений, основой которых является контроль женщин над своей собственной жизнью, своим телом внутри дома и вне его; устранение всех форм неравенства, господства и подавления путем создания справедливого социального и экономического порядка, в границах одной страны и в мире.
Феминистское «Reaison d’eure» - это историческая реальность ан-дроцентричной культуры, следствием чего является исключение из нее женщин и их изоляция в ней. Феминизм преследует цель: признание равноценности обоих полов во всех сферах жизни, в том числе на уровне «символического», прежде всего в сфере языка.
Для стиля поведения мужчин характерны: контроль над эмоциями, ориентация на успех и на большие достижения, способность к конкурентной борьбе. Поведение женщины, напротив, очень лично: она эмоциональна, заботлива, всегда готова придти на помощь. Все эти качества традици- онно считаются женскими, и женщине в патриархальном обществе отводится место где-то на окраине социума.
Роль пионера в феминисткой теории и практике принадлежит Виржинии Вульф. Ее произведение «ARoom of One’s Own», появившееся в 1929 г, реконструирует историю подавления женской креативности и трагические последствия этого для творчества женщин. Симона де Бовуар в своем произведении «Das andere Geschlecht» («Другой пол») пришла к двум важнейшим для феминистского движения выводам: женщины в патриархальном обществе являются «другими», в то время как мужчина - это норма всего и женственность - это не врожденное человеческое свойство, а созданное обществом. «Женщиной не рождаются, женщиной становятся»3.
Дискуссия о формальных и содержательных элементах «женского письма» проходила в два этапа. Сначала были сформулированы программные положения: требование субъективности при создании литературного произведения; вторым положением было: женщина «пишет телом»4. Феминистское движение предложило искусству и литературе «феминизироваться».
Приведем высказывания трех теоретиков философии феминизма и феминистского литературоведения о формальных и содержательных элементах «женского письма»: Сильвии Бовеншен, Элен Сиксу, Юлии Кри-стевой.
Женщина другая, и поэтому, согласно Сильвии Бовеншен5, она все делает по-другому: у нее другое восприятие, другой опыт, она чувствует иначе. То, что этот факт до сих пор не осознан, объясняет препятствие, с которым сталкивается деятельность женщин, в том числе и их деятельность в сфере художественного творчества. Творческая деятельность женщин находится вне норм, предлагаемых обществом, где доминирует мужчина.
Женщинам, занимающимся литературным творчеством, предлагают обратиться к тем сферам творчества, где они себя уже успешно проявили в прошлые века - это рассказ о своих личных переживаниях, например, в дневнике, в воспоминаниях, или эпистолярный жанр. В эстетической системе ценностей эпохи романтизма женщины утвердили себя в культуре беседы.
«Радикальная субъективность» и «достоверность» были требованиями к новой женской литературе, которые были сформулированы на первой встрече пишущих женщин в мае 1976 г. Книга Верены Штефан «Haeutungen»6 («Сбрасывание кожи»), воплотившая этот концепт, стала в 70-е гг. культовой. Это автобиография, которая исходила из телесного опыта я-повествовательницы. Я-повествовательница передает процесс осознания своего «другого бытия» метафорой «сбрасывание кожи». «Сбрасывание кожи» - это обретение себя. Книга посвящена также полемике о языке. Верена Штефан не находит в своем собственном языке, который является в патриархальном мире мужским, слов, способных рассказать об опыте жен- ской сексуальности - главной теме ее книги. За книгой Верены Штефан последовал необозримый поток автобиографических текстов, повторяющих темы исключения женщин из общественной жизни, угнетения ее в семье, сексуального подавления, подчиненного положения в профессии.
Вторым программным требованием новой женской литературы было «писать телом». Это понятие не так легко раскрыть на содержательном уровне.
Тело становится сосудом, который может вместить все радости, обиды, всю боль, тоску, весь опыт, которые сопровождают женское бытие. Прежде всего, следует назвать элементарный телесный опыт: женская сексуальность и беременность относятся к важнейшим темам женского движения. Второй уровень понятий составляют культурные представления о женском теле. Женское тело, которое существует только благодаря мужскому взгляду, в основном обнаженное, как объект вожделения. Представления о природе, теле и женщине versus тело, дух, мужчина являются чем-то абсолютно окаменевшим.
Женщина пытается покинуть отведенное ей место молчания. Но, создавая литературные произведения, она повторяет слова, не являющиеся ее «языковой родиной», так как их употребляют в патриархальном мире мужчин. Она должна их сначала сделать своими.
Одна из представительниц новой женской литературы немецкая писательница Анне Дуден вводит понятие «криптестезии»7. «Криптесте-зия» - это сверхчувствительное восприятие, которое делает возможным восприятие того, что в нашей культурной памяти хотя и сохраняется, но одновременно и утаивается, то есть не хочет быть воспринято. Писательница вовлекает тело в игру. Это интенсивные телесные восприятия. Это всегда область боли. Тело говорит об этой боли криком.
У героини рассказа «Uebergang»8 («Переход») в результате нападения сильно повреждено лицо, и внешнее повреждение приводит к тому, что душевные травмы, накопленные за жизнь, дают о себе знать. «Внутренность» героини всегда все поглощало и создало «вакуум с голодным ртом», «вакуумный рот». Этот рот стал пожирателем всего. Однажды съеденное становилось грамматикой языка, тяжелого и никак не проявляющегося языка сна, по ту сторону порога, смысла, формы. Героиня становится телом - памятью, но памятью, из которой никогда ничто не выходит обратно. Она становится «телом-симптомом» всего вытесненного, спрятанного в обществе, В героине рассказа «Uebergang» проявляется вдвойне проблематичное отношение «женского» к языку, который заставили не только замолчать.
У языка женщин нет места в обществе, где доминирует мужчина, поскольку структура символического в патриархальном обществе основана на исключении всего женского. Еще один пример: в романе Ингеборг Бах-манн «Малина» дается образ бессловесной женственности в виде бессловесного рта9.
По мнению Элен Сиксу, женщине, чтобы раскрыть суть женственности, необходимо пробираться, иногда украдкой, через дискурсы, в которые ее поместила традиция патриархального общества, то есть через дискурсы, которые видят женщину «лежащей» в кровати, на земле, чаще всего в гробу10.
Элен Сиксу исходит из того, что язык обладает способностью формировать своеобразие личности, что язык, как различительная система, накладывается на неупорядоченную реальность, создавая тем самым осмысленную действительность. Элен Сиксу повторяет за Жаком Лаканом11, что мир слов создает мир вещей. Женщина формирует себя, занимаясь писательским трудом. Благодаря письму и через письмо она обретает свою женскую идентичность. Условием для этого является ее зависимость от тела, от сексуальности, от ее женского «бытия». Она предлагает женщине выразить себя через «письмо». Женское тело должно заставить себя слушать.
Женщина пишет не как мужчины, потому что она пишет телом. Тексты мужчин, по мнению Элен Сиксу, имеют начало и конец. Они представляют определенный жанр, структурированы и имеют адресата. Мужчины пишут порциями. Женщина создает чувственный «текст-тело». Женщине доступен более высокий уровень чувственности, эротизма, потому что женщина - это, прежде всего, пол, тело. Из всего этого следует, что у женщины и больше способности действовать, а действовать - это прежде всего писать. Перевести язык тела на язык непосредственно «шрифтом» трудно. Главное место отводится взрывающемуся языку, который восстает против любой формы. Призыв «забыть орфографию» не означает чистого произвола в грамматике, а означает игру с языком и внутри него. Прежде всего, имеется ввиду игра фонетическая, так как «женский» текст создан для голоса: орфоэпия, звуковые ассоциации, игра слов. Это самые яркие признаки «женского текста». Язык «женских текстов» труден. Это, в первую очередь, язык, который не называет непосредственно вещи, то есть их представляет, а «берет слова в руки и бесконечно нежно кладет их рядом с вещами»12. Образы, которые используются женщинами-авторами, берутся из опыта беременности, родов, общения матери с новорожденным.
Для Юлии Кристевой женственность - это, прежде всего, материнство. В роли матери - загадка женственности. Юлия Кристева пишет: «Я за ту концепцию женственности, в которой столько “женственностей”, сколько женщин»13.
Существуют теории, согласно которым творчество женщин ограничивается определенными сферами жизни, определенными проблемами. Важным аспектом вновь возникших теорий литературы было подчеркнуть то, что женщины пишут другие тексты, интересно и важно изучать их эстетику, проблематику, язык,
Автором этих строк подготовлено пособие по работе с текстами австрийских писательниц последних десятилетий XX в. Почти все они уже
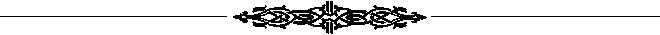
стали классиками австрийской литературы.
В него включены прозаические произведения Ильзы Айхингер, Фридерике Майрекер, Марлен Хаусхофер, Ингеборг Бахманн, Барбары Фришмут, Эльфриды Елинек, Марии-Терез Кершбаумер, Эвелин Шлаг и других писательниц, а также стихи Ингеборг Бахманн, Кристины Бусты, Кристины Лавант и многие другие. Среди прозаических произведений рассказы, эссе, стихотворения в прозе, рассказы, написанные как музыкальные произведения. В этом ряду встречаются притчи, размышления о женских судьбах, о детях, о месте женщины в обществе, о ее положении и роли в семье. Есть произведения, включающие в себя игру со звуком, словом, фразой. Стихотворения, представленные в пособии, - это лирика, философские размышления; некоторые из них написаны в сюрреалистической, авангардной манере. Поэтический язык австрийских поэтов-женщин метафоричен. Он отличается особой образностью, очень емкий. Для него характерно смешение различных дискурсов. Можно говорить о текстовой мозаике их произведений. Темы в поэзии затрагиваются самые различные. Интересно проследить, каким образом лейтмотив стихотворения получает отображения на морфологическом, семантическом и фонологическом уровнях.
Австрийская литература иронична, парадоксальна, эксцентрична, артистична. Для австрийского писателя история и вся жизнь дана в языке и через язык. В качестве примера приведем рассказ, посвященный теме родного языка.
Тема рассказа Ильзы Айхингер «Мой язык и я»14 - это взаимоотношения автора и языка, на котором он пишет. Положение писателя, создающего новые формы, структуры, слова, полно драматизма, его никто не понимает, прежде всего, его язык. В тексте Айхингер язык является существом абсолютно самостоятельным и живет своей независимой жизнью. «Язык» по-немецки женского рода - это дама. Она капризна и своевольна. Пове-ствовательница прислуживает ей, но «язык» держит ее на расстоянии и молчит. «Мой язык и я, мы не говорим друг с другом, нам нечего сказать». Язык ее просто игнорирует.
Рассмотрим задания к нескольким стихотворениям и прозаическим произведениям.
Задания к стихотворению Ингеборг Бахманн «Слова»15 («Слова, подъем, за мной»),
-
1. Что является основной темой стихотворения?
-
2. Какие личные отношения складываются у лирического «я» со словами?
-
3. С чем идентифицируются в стихотворении слова?
-
4. Каков мир, созданный словами?
-
5. В каких строках лирическое «я» говорит об этом?
-
6. Не слишком ли большое значение придается словам в стихотворении?
-
7. Как могут слова говорить или мир - не говорить?
-
8. Слова изображены в стихотворении как живые существа, у которых своя жизнь и своя судьба. Почему?
-
9. Напряжение в стихотворении нарастает от строки к строке. Каким образом это достигается?
-
10. Ожившее слово - это метафора. Если все стихотворение метафора, то чего?
-
11. Как лирическое «я» обращается к словам?
-
12. К какому слову лирическое «я» обращается на «ты»?
-
13. 0 чем просит лирическое «я» в последних строках стихотворения?
Стихотворение Фридерике Майрекер «Romanze mil Blumen»16 («Романс с цветами») можно рассматривать как натюрморт, составленный из слов.
-
1. Что Вас поражает при первом прочтении стихотворения?
-
2. Вам не показалось, что эти слова не могут сочетаться друг с другом? Что они несоединимы?
-
3. Что делает стихотворение единым целым?
-
4. Можно ли в этом потоке мыслей и слов услышать основную тему стихотворения?
-
5. Почему это стихотворение называется романсом? Форма романса в стихотворении не соблюдается.
-
6. Почему автор оставляет части предложения, фразы трех языковых блоков, из которых состоит стихотворение, открытыми?
-
7. Стихотворение состоит из ассоциаций; из каких?
-
8. Это стихотворение может вывести Вас в свободный мир представлений. Что Вы представляли, читая стихотворение?
-
9. В конце стихотворения называются цветы. Какие бы цветы Вы добавили в этот ряд?
В пособии также приводится несколько отрывков из романа Марлен Хаусхофер «Eine Handvoll Leben»17 («Пригоршня жизни»). Примеры заданий к тексту:
-
1. Найдите в приведенных отрывках места, где я-повествовательница критикует патриархальное общество, в котором царит мужчина.
-
2. Можно ли назвать позицию рассказчицы «тихим цинизмом»? Как она к нему подошла?
-
3. Как Марлен Хаусхофер изображает отношения между полами?
-
4. Как Вы можете определить понятие «мужественность»?
-
5. He слишком ли у женщин тонкая кожа, чтобы выдерживать шум, насилие, взгляды?
-
6. Вы могли бы назвать этот текст Марлен Хаусхофер феминистским? Если да, то почему?
Задания к отрывкам из прозаического произведения Фридерике Май-рекер «Das Herzzerreissende der Dinge»18 («Разрывающее сердце вещей»):
-
1. Литературный труд - тяжелое дело, которое требует напряжения и связано с сомнением, разочарованием, поражением и пустотой. Он изнурителен. Можно ли говорить о том, что этот труд - удовольствие?
-
2. Так же все непросто с удовольствием от прочтения. Литературное произведение может быть абсолютно не понято. Это тоже связано с отчаянием, разочарованием и пустотой. Каково Ваше мнение?
-
3. Что нужно я-повествовательнице, чтобы писать?
-
4. Что является для я-повествовательницы «разрывающим сердце вещей»?
-
5. Как может время растаять на языке?
-
6. Зачем я-повествовательнице нужно растаявшее на языке время?
-
7. Я-повествовательница прижимает время к сердцу. Это возможно?
-
8. Я-повествовательница не хочет писать историй. Ее литература возникает из «бессловесности». Как и почему она пишет?
Для студентов-филологов важно и интересно работать с различными литературными текстами, уметь их анализировать, интерпретировать и писать по ним эссе. Это развивает речевые навыки студентов, развивает у них чувство языка, обогащает словарный запас, а произведения, относящиеся к «женскому письму», представляют собой богатый материал для обучения иностранным языкам.
Список литературы Формирование языковой личности и культурного пространства обучаемого (на примере "женского письма" в австрийской литературе)
- Гете И.В. Фауст/Пер. с нем. Б. Пастернака. М., 1976. С. 440
- Бахманн Инг. Малина/Пер. с нем. С. Шлапоберской. М., 1998. С. 149
- De Beauvoir S. Das andere Geschlecht. -Sitte und Sexus der Frau. Reinbek/H., 1992. S. 194
- Frei Gerlach F. Schrift und Geschlecht. Feministische Entwuerfe und Lektueren von Marlen Haushofer, Ingeborg Bachmann und Anne Duden. Berlin, 1998. S. 30-33
- Bovenschen S. Ueber die Frage: gibt es eine «weibliche» Aesthetik?//Aesthetik und Kommunikation. 1976. Bd. 25. S. 60, 64
- Stefan V. Haeutungen. Muenchen, 1985
- Duden A. Arbeitsplaetze//Duden A. Wimpertier. Koeln, 1995. S. 102
- Duden A. Uebergang. Hamburg, 1996. S. 65
- Bachmann Ing. Malina. Frankfurt/Main, 1995
- Cixous H. Schreiben, Feminitaet, Veraenderung//Alternative. 1976. Bd. 108/09. S. 137-147
- Lacan J. Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse. Wien, 1991. S. 117
- Cixous H. Die unendliche Zirkulation des Begehrens. Berlin, 1977. S. 24
- Kristeva J. Kein weibliches Schreiben? Fragen an Julia Kristeva//Freibeuter. 1979. Bd. 2. S. 82
- Eichinger I. Meine Sprache und ich//Erzaehlungen. Frankfurt/Main, 1970
- Бахманн Инг. Воистину. Стихи = Ihr Worte. Слова/Пер. с нем. Е. Соколовой. М., 2000. С. 142
- Mayroecker Fr. Romanze mit Blumen//Ausgewaehlte Gedichte 1944-1978, 1979. Frankfurt/Main, 1986
- Haushofer M. Eine Hanvoll Leben. Muenchen, 1990
- Mayroecker Fr. Das Herzzerreissende der Dinge. Frankfurt/Main, 1990