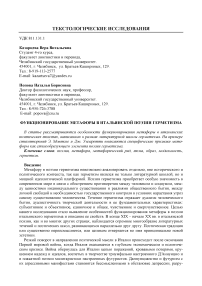Функционирование метафоры в итальянской поэзии герметизма
Автор: Казарцева Вера Витальевна, Попова Наталья Борисовна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Текстологические исследования
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности функционирования метафоры в итальянских поэтических текстах, написанных в рамках литературной школы герметизма. На примере стихотворений Э. Монтале и Дж. Унгаретти выявляются специфические признаки метафоры как стилеобразующего элемента поэзии герметизма.
Поэзия, метафора, метафорический ряд, тема, образ, модальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147227625
IDR: 147227625 | УДК: 811.131.1
Текст научной статьи Функционирование метафоры в итальянской поэзии герметизма
Метафору в поэзии герметизма невозможно анализировать отдельно, вне исторического и политического контекста, так как герметизм являлся не только литературной школой, но и мощной идеологической платформой. Поэзия герметизма приобретает особую значимость в современном мире в связи с обострением противоречия между человеком и социумом, между ценностями индивидуального существования и реалиями общественного бытия, между личной свободой и необходимостью государственного контроля в условиях нарастания угроз самому существованию человечества. Течение герметизма отражает дуализм человеческого бытия, дуалистичность творческой деятельности в ее фундаментальных характеристиках: субъективное и объективное, единичное и общее, чувственное и сверхчувственное. Целью нашего исследования стало выявление особенностей функционирования метафоры в поэзии итальянского герметизма и описание ее свойств. В конце XIX - начале XX вв. в итальянской поэзии, как и во многих других странах, наблюдается огромное многообразие литературных течений и поэтических школ, развивающихся параллельно друг другу. Поэтическая традиция или существенно переосмысляется, или целиком отвергается во имя принципиально новой эстетики.
Резкий поворот в направлении поэтической мысли в Италии происходит после окончания Первой мировой войны, когда Италия оказывается в глубоком экономическом и политическом кризисе. Война обернулась для Италии цепью поражений, кровавыми потерями, крушением надежд и идеалов, воспетых в творчестве триумфально настроенного Д'Аннунцио и в плакатной поэзии милитаристски настроенных футуристов. Даннунцианство и футуризм с их агрессивными манифестами становятся бессмысленными в обстановке депрессии, разру- хи и нищеты, и оба направления постепенно угасают и переходят в область истории литературы.
С приходом к власти фашистов большинство литературных журналов начинает поддерживать официальную линию партии: поэзия декаданса провозглашается безнравственной, нездоровой и безвольной, способной нанести вред католической и фашистской Италии. Творческую интеллигенцию принуждают подчиниться диктатуре, а в таких условиях неприятие режима в искусстве может получить лишь косвенное, зашифрованное выражение [Мо-тылева, 1987]. Недовольство и раздражение политической обстановкой привели к тому, что возникла сильная тяга к «чистому искусству», к собственно лирической поэзии, обращенной внутреннему миру человека. Новая поэтика ставила перед собой задачу отстоять вечные поэтические ценности, гуманизировать искусство, выявить «слово в его целомудренности» [Кин, 1968], и эта задача явно противоречила преступной риторике фашизма.
Основная часть
Годом рождения новой поэтической школы герметизма, принято считать 1936 г. Впервые о ее существование заявил литературный критик Франческо Флора своей работой «Герметическая поэзия». Название школы восходит к мифу о Гермесе, создателя оккультных наук, и подчеркивает замкнутость поэтического произведения, трудность для прочтения, уход в мир субъективных переживаний лирического героя. Однако поэзия герметизма не сводится к одной лишь замкнутости как самоцели, а выявляет отрицательное отношение герметиков именно к фашистской идеологии [Володина, Акименко, Полуяхтова, Потапова, 1990]. Герметиков обвиняли в их пассивной позиции по отношению к диктатуре, но какой бы ограниченной ни была оппозиционность герметиков - это все же была оппозиционность [Кин, 1968]. В 1936 г. герметики заявляют: «Все, что не является стилем нас не касается» - в этом и пассивное неприятие фашистской действительности, и бегство от нее, и ставка на некий духовный аристократизм. К ярким представителям герметизма относят: Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Сальвадоро Квазимодо, Марио Луци, Альфонсо Гатто и др.
Герметическая поэзия исходит из того, что наиболее важной и подлинной духовной ценностью является индивидуальное восприятие мира. Поэтому не случайно основной темой герметизма становится вечная проблема человеческого одиночества, а вдохновение герметики черпают из своего прошлого. Стремление герметиков уйти от действительности в искусственно созданный метафорический мир находит свое отражение в поэзии, далекой от актуальных тем и проблем, существующих вне их поэтического мира. Поэтический герметизм есть сознательный уход в узкий мир личного «я», реализуемый различными в том числе и лингвистическими способами.
Следует отметить, что в своем творчестве герметики больше увлечены усложнением плана содержания, нежели работой над планом выражения своих стихов. Их верлибры не отличаются какими-то особыми ритмами, но в них заметно стремление к максимальной значимости слова, в них зачастую отсутствуют знаки препинания, что препятствует пониманию единой тональности стихотворения. Основным принципом поэтики герметизма при построении образа становится усложненная аналогия с перенесением одного ряда восприятий в другой, с утратой связующего логического звена или с пропуском отправного пункта [Володина, Акименко, Полуяхтова, Потапова, 1990]. Наиболее полно этот принцип реализуется через метафору, занимающую особое место в герметической поэзии.
Благодаря таким свойствам метафоры, как слияние образа и смысла, благодаря контрасту метафоры с тривиальной таксономией объектов и наличием в структуре метафоры категориального сдвига, благодаря синтетичности и диффузности значений в структуре метафоры [Арутюнова, 1990, с. 20], понимание поэтического текста усложняется. Осознанно или случайно, поэт-герметик тщательно кодирует передаваемую им информацию, выстраивает сложную и многослойную метафорику поэтического произведения, формируя тем самым особый герметичный стиль.
Евгений Солонович пишет о том, что герметики благодаря замкнутости пространства своих стихотворений, «расширили возможности аналогии в поэзии» [Солонович, 1968, с. 19]. И действительно, патриарх герметизма Дж. Унгаретти говорил о тенденции герметичного слова «привести в соприкосновение самые отдаленные понятия». Как видим, речь идет о безграничном расширении возможностей поэтической метафоры, которыми широко пользуются итальянские поэты герметического направления.
В качестве примера рассмотрим метафорику хрестоматийного стихотворения яркого представителя герметизма Эудженио Монтале:
Spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia era 1'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato.
(Я часто встречал в своей жизни зло //это задушенный ручей, что хрипит // это свернувшийся лист// сухой, это загнанная лошадь)
Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
(Добра не знал я, не считая чуда, // скрывающего в себе Божественное равнодушие // это была сонная статуя, // облако, высоко парящий сокол)
В переводе Е. Солоновича стихотворение, безусловно, выглядит иначе, ибо художественный перевод - это всегда создание нового, оригинального произведения на основе исходного текста:
Зло за свою держалось непреложность:
то вдруг ручей, задушенный до хрипа, то выброшенная на берег рыба, то мёртвый лист, то загнанная лошадь.
Добра не знал я, не считая чуда, являемого как бы ненароком то в сонной статуе, то в облаке далёком, то в птице, звавшей улететь отсюда.
Метафорика представленного стихотворения подчеркивает стремление Э. Монтале к герметичной замкнутости: все произведение состоит из однородного ряда метафор, не связанных логически. Ряд восприятий резко меняется, не давая читателю возможность подробно разобраться хотя бы с одной из метафорических загадок. Зло, с которым встречался в своей жизни поэт, именуется и задушенным до хрипа ручьем, и сухим листом, и загнанной лошадью.
Перед нами классическая двучленная метафора (а+Ь), представленная в виде предикативной конструкции, где а и Ь, между которыми утверждается тождество, принадлежат к разным логическим категориям: абстрактное (зло) и конкретное (ручей, лист, лошадь).
Та же схема построения метафоры используется автором и во второй строфе. Лирический герой не знал в своей жизни добра, но он искренне верит в чудеса. Чудо, по мнению поэта, заключается в божественном Равнодушии, в сонной статуе, в облаке, в высоко парящем соколе.
«Герметичность» метафорики Э. Монтале проявляется в неделимости, семантической и ассоциативной связности всех метафор исследуемого нами стихотворения. О подобном свойстве лирики Монтале пишет его блистательный переводчик Е. Солонович: «словно в большом музыкальном произведении, самостоятельные темы в лирике Монтале могут быть восприняты до конца лишь в общем контексте» [Солонович, 1968, с. 20].
Если рассматривать, например, ту или иную метафору отдельно от общего метафорического ряда произведения, то будет достаточно сложно вычленить логическое связующее звено между темой и образом, которое необходимо для понимания метафоры. Любой лист со временем сохнет и сворачивается, как описывается в стихотворении, но данный образ усохшего листа ассоциируется у Монтале с темой «зла». Этот неожиданный метафорический образ вызывает недоумение и вопросы. И ответ на этот вопрос возможен только при общем анализе ассоциативного ряда однородных и однотипных метафор, которые последовательно подводят к появлению общей семы-признака зла в понимании поэта: «задушенный (буквально высохший) ручей», «сухой лист», «загнанная лошадь». Только рассматривая эти метафоры как неразрывную и семантически цельную конструкцию, можно выделить образное ядро, служащее разгадкой данной двучленной метафоры: в основе всех метафор лежит процесс умирания.
Процесс умирания, описанный поэтом в данном контексте, абсолютно естественен: ручью, как и листу, свойственно высыхать, лошадь не загоняют намеренно, это всегда естественный результат насильственного ускорения темпа. Приравнивание всех этих процессов и наречение их «злыми» - это, безусловно, личностный и субъективный взгляд поэта на окружающую его действительность. Можно предположить, что автор видит зло в самом естественно протекающем потоке жизни. Данный вывод подтверждается буквально в следующей строке: «bene non seppi» («добра не знал я») - поэт отмечает, что в его жизни было одно зло, а добра на его пути не встречалось. Вообще Монтале, как и другим представителям герметической поэзии, свойственен пессимистический взгляд на жизнь и грустная элегическая окрашенность [Володина, Акименко, Полуяхтова, Потапова, 1990].
Как уже было отмечено, роль метафоры в герметичной поэзии крайне велика, метафоры нанизываются одна на другую, их высокая плотность затрудняет прочтение всего стихотворения, создавая при этом определенную тональность пессимизма, закодированную в самых отдаленных значениях сопоставляемых слов.
Вернемся еще раз к первой строфе стихотворения Монтале, чтобы рассмотреть удивительное наслоение метафор друг на друга.
Spesso il male di vivere ho incontrato // era il rivo strozzato che gorgoglia // era 1'incartocciarsi della foglia riarsa, // era il cavallo stramazzato (Я часто встречал в своей жизни зло //это задушенный ручей, что хрипит // это свернувшийся лист // сухой, это загнанная лошадь)
В метафорическом фрагменте il male di vivere era il rivo strozzato che gorgoglia (зло моей жизни было задушенным ручьем, который хрипит) можно выявить сразу 3 метафоры. Первая метафора - жизненное зло есть ручей (двучленная метафора), вторая метафора - ручей задушен (одночленная метафора) и третья метафора - ручей хрипит (одночленная метафора).
Четвертой метафорой будет приравнивание зла к свернувшемуся сухому листу: il male di vivere era 1'incartocciarsi della foglia riarsa (зло моей жизни было свернувшимся сухим листом).
Пятой метафорой в данной строфе является приравнивание зла к загнанной лошади: il male di vivere era il cavallo stramazzato (зло моей жизни было загнанной лошадью).
Шестой метафорой можно отдельно выделить стертую, необразную метафору: il male di vivere ho incontrato (я часто встречал в своей жизни зло).
Таким образом, действительно, особенностью поэтики итальянского герметизма является перенасыщенность текста стихотворения многослойными метафорами, что усложняет его восприятие, герметизирует передаваемый смысл и, в конечном счете, удовлетворяет целям и задачам, которые поэты поставили перед собой и перед всей герметической поэзией как перед литературным течением и идеологической школой.
Помимо частого чередования метафор и их сложного строения, герметическая метафора отличается своей парадоксальностью. И.П. Володина, А.А. Акименко, З.М. Потапова, И.К. Полуяхтова в труде по истории итальянской литературы XIX-XX вв. описывают еще один характерный прием герметизма - соединение всех ощущений в один сенсуальный клубок [Володина, Акименко, Полуяхтова, Потапова, 1990, с. 216].
Рассмотрим его подробнее на примере стихотворения «II tempo ё muto» («Безмолвно время») Джузеппе Унгаретти, одного из первых выдающихся герметиков:
Il tempo ё muto fra canneti immoti...
(безмолвно время в неподвижных камышах)
Lungi d’approdi errava una canoa...
Stremato, incite il rematore... I cieli
Gia decaduti a baratri di fumi...
(Далеко от причала плывет каноэ // Уставший гребец неподвижен... Небеса // Уже рухнули в дымящиеся бездны...)
Proteso invano all’orlo dei ricordi, cadere forse fu тегсё...
(зря потянуться к пропасти воспоминаний, // Упасть, вдруг там спасение...)
Non seppe
(Не знал он)
СН’ё la stessa illusione mondo е mente,
Che nel mistero delle proprie onde
Ogni terrena voce fa naufragio.
(Что мир и сознание - это одна иллюзия // Что в тайне ее волн // Любой земной голос вызывает кораблекрушение)
В художественном переводе Евгения Солоновича стихотворение выглядит следующим образом:
Безмолвно время в камышах застывших...
Блуждало от земли вдали каноэ...
Гребец недвижен... Рухнувшее небо
Дымящиеся бездны поглотили...
У самой пропасти воспоминаний
Упасть... А вдруг спасенье в ней?
Не знал он,
Что разум - призрак в иллюзорном мире,
Что кораблекрушением чреваты
Любого голоса земного волны.
В данном произведении тесно переплетаются категории пространства и времени, поэт одновременно рисует визуальные и звуковые картины, абстрактное сочетается с конкретным, а неодушевленное олицетворяется.
Переплетение сенсорных модальностей в стихотворении осуществляется, в первую очередь, посредством метафоры, ведь именно метафора отвечает в тексте за перенос значений, выстраивание аналогий и противопоставлений. Из всех тропов только метафора содержит в себе категориальный сдвиг [Арутюнова, 1990], без которого невозможен переход из одной сенсорной системы в другую. Само название содержит в себе метафору-олицетворение «II tempo ё muto» (безмолвно время), время как абстрактная категория наделяется конкретными антропоморфными свойствами. Присуждая времени характеристику безмолвности, поэт присваивает ему аудиальную модальность, ведь если время безмолвно, значит очевидно, что мы его не слышим.
Следующая метафора уже относит нас к модальности визуальной: «i cieli gia decaduti a baratri di fumi» (небеса уже рухнули в дымящиеся бездны). Небеса, которые по определению являются неосязаемыми, падают в дымящиеся бездны. К небу применяются понятия вещественности, и таким образом, поэт рисует читателю красочную визуальную картину.
Следующая метафора перемещает читателя одновременно в пространстве и во времени, переходя в область кинестетической модальности: «proteso invano all’orlo dei ricordi, cadere forse fu тегсё» (зря потянуться к пропасти воспоминаний, упасть, а вдруг спасенье в ней). Лирический герой тянется по направлению к пропасти воспоминаний: воспоминания наделяются пространственными характеристиками, более того в них можно упасть, и даже найти в них спасение.
Вся эта сенсорная путаница логически оправдывается в следующей строфе: «СН’ё la stessa illusione mondo е mente» (мир и сознание - это одна иллюзия). Вещественный, материальный мир - так же иллюзорен, как наше сознание. Перед нами двучленная метафора в виде предикативной конструкции, побуждающая лирического героя обратить свой взор внутрь себя, осознать себя в этом мире иллюзий. Смещение фокуса стихотворения переходит в дигиталь-ную модальность.
Последняя метафора в стихотворении Унгаретти имеет для читателя звуковую модальность: «Che nel mistero delle proprie onde ogni terrena voce fa naufragio» (в тайне ее волн любой земной голос вызывает кораблекрушение), лирический герой не знает о том, что любой земной голос способен вызвать кораблекрушение в волнах этих тайных иллюзий. Так, читатель и лирический герой начинают слышать пронзительный голос, способный на подобные разрушения.
Заключение
Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие особенности функционирования метафоры в текстах итальянских поэтов-герметиков: многослойное строение метафоры, ее парадоксальность и субъективность, необычно высокую насыщенность текста стихотворения метафорами, способность метафоры сочетать разные сенсорные модальности в рамках одного произведения. Являясь важнейшим ресурсом образной, поэтической речи, метафора в герметической поэзии становится стилеобразующим элементом, акцентирует многозначность слова, усложняет восприятие поэтического текста, герметизирует его.
Список литературы Функционирование метафоры в итальянской поэзии герметизма
- История итальянской литературы XIX-XX веков: учебное пособие / И.П. Володина, А.А. Акименко, З.М. Потапова, И.К. Полуяхтова. Москва: Высш. шк., 1990.
- Итальянская лирика XX век / Пер. с итал под ред. С.В. Шервинского; предисл. А.А. Суркова; сост. Е. М. Солонович. Москва: Прогресс, 1968.
- Кин Ц.И. Миф, реальность, литература. Москва: Сов. писатель, 1968.
- Мотылева Т.Л. Литература против фашизма: по страницам новейшей зарубежной прозы // Т.Л. Мотылева. Москва: Сов. писатель, 1987.
- Теория метафоры: сборник / Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.: вступ. ст. Н.Д. Арутюновой; общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. Москва: Прогресс, 1990.