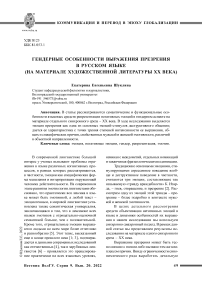Гендерные особенности выражения презрения в русском языке (на материале художественной литературы XX века)
Автор: Шуклина Е.Е.
Рубрика: Коммуникация и перевод в эпоху глобализации статьи
Статья в выпуске: 20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются семантические и функциональные особенности языковых средств репрезентации негативных эмоций в гендерном аспекте на материале отдельного синхронного среза - XX века. В ходе исследования выделяется эмоция презрения как одна из основных эмоций-стимулов деструктивного общения; дается ее характеристика с точки зрения степеней интенсивности ее выражения, общих и специфических причин, свойственных мужской и женской эмотивности, различий в объектной направленности.
Эмоция, негативные эмоции, гендер, репрезентация, эмотив
Короткий адрес: https://sciup.org/149143204
IDR: 149143204 | УДК: 8123
Текст научной статьи Гендерные особенности выражения презрения в русском языке (на материале художественной литературы XX века)
В современной лингвистике большой интерес у ученых вызывают проблемы отражения в языке различных когнитивных процессов, в рамках которых рассматриваются, в частности, эмоции как специфическая форма мышления и интерпретации окружающей человека действительности. На современном этапе развития эмотиологии лингвистами обосновано, что практически вся лексика в языке может быть эмотивной, а любой текст – эмоциогенным, в мировой лингвистике установлена также семантическая универсалия, заключающаяся в том, что в лексиконе всех языков эмотивов с отрицательно-оценочной семантикой больше, чем с положительной. Кроме того, отрицательные эмоции выражаются людьми во всем мире более отчетливо и разнообразно [5]. Этот тезис, высказанный еще в конце прошлого века [1; 3], подтверждается и данными современных исследований как отечественных [4], так и зарубежных лингвистов [6] – проявляется это превалирование практически на всех языковых уровнях, начиная с междометий, отдельных номинаций и заканчивая фразеологическими единицами.
Традиционно основными эмоциями, стимулирующими агрессивное поведение вообще и деструктивное поведение в частности, считаются три эмоции, составляющие так называемую «триаду враждебности» К. Изарда, – гнев, отвращение, и презрение [2]. Рассмотрим одну из эмоций этой триады – презрение – более подробно в контексте мужской и женской эмотивности.
В целях детального рассмотрения средств объективации негативных эмоций в языке и динамики особенностей их выражения в нашем исследовании мы используем синхронно-диахронный подход. В рамках данной статьи мы представляем результаты исследования на материале одного синхронного среза – XX века.
Выражение презрения может быть тесно связано с гневом либо вызвано тем же комплексом причин. Ввиду ограниченности синонимического ряда выработать детальную шкалу интенсивности, основанную на прямой номинации, не представляется возможным, поэтому о повышенной или ослабленной степени его проявления можно судить, основываясь на контекстуальных уточнителях.
Среди основных причин, обусловливающих выражение презрения субъектами-мужчинами, можно выделить две основных: 1) первоначальное раздражение, недовольство; 2) проявление объектом физической или эмоциональной слабости, глупости.
Состав языковых средств, участвующих в репрезентации презрения, вызванного первоначальным раздражением, недовольством, может ограничиваться лишь прямой номинацией в сочетании с глаголом речевой деятельности, а может быть представлен и довольно большим количеством различных эмотивов: «Я видел, как вы на комиссии сидели, когда на меня навалились, как будто вы никакого отношения не имеете. Хотя бы перед Агатовым он заставил себя стать прежним. – К вам? – Он прищурился и протянул: – Не имею. …он больше не хотел уклоняться; он вложил в свои слова все накопленное презрение к этой бездари, столько времени мешавшей ему. И он был рад, что Агатов почувствовал это» (Гранин); «Шофер бесшумно поднялся на крыльцо, войдя в комнату, не поздоровался, а только неприветливо насупился. Кто тут будет Прохоров? недружелюбно спросил он, хотя в кабинете, кроме Прохорова, никого не было. Я спрашиваю, кто здесь будет Прохоров? – Губы у шофера были брезгливо оттопырены, спина надменно пряма, в глазах читалось презрение ко всему человечеству, а теплые тапочки, надетые на босые ноги, как бы кричали: «Что хочу, то и делаю, а все вы гроша ломаного не стоите!» (Липатов) – в обоих приведенных примерах степень интенсивности выражения презрения можно охарактеризовать как повышенную, несмотря на значительное различие в объеме задействованных эмотивов. В первом случае репрезентация осуществляется только при помощи единиц контекстуальной эмотивности, описывающих тон голоса, однако качественные и количественные характеристики выражаемой эмоции – обобщающее местоимение все и причастие накоплен- ное, экспрессивно окрашенная лексема бездарь, имеющая резко отрицательную коннотацию, – имплицитно подчеркивают ее интенсивность.
Во втором же примере непосредственно на реализацию презрения указывает использование прямой номинации внешнего проявления при описании выражения лица – в глазах читалось презрение , и в пределах этого словосочетания интенсивность проявления эмоции усилена контекстуальным уточнителем со значением гиперболизации ко всему человечеству ; присутствует и прямая номинация внешнего проявления при описании положения тела – спина надменно пряма . Помимо этого, в репрезентации участвует достаточно большое количество единиц контекстуальной эмотивности, описывающих поведение субъекта, которые обладают объектной направленностью, то есть призваны показать активное проявление презрения по отношению к объекту – не поздоровался , неприветливо насупился , недружелюбно спросил. Стоит отметить, что в данном примере специфически использованы вербальные средства выражения: в реально разворачивающейся речевой ситуации субъект-мужчина не прибегает ни к повышению тона голоса, ни к какому-либо другому эксплицитному вербальному способу выражения эмоций, эта функция при помощи синекдохи переносится на его тапочки и таким образом представлено переосмысленное вербальное средство выражения – эмо-тивное восклицание. На то, что эмотивное восклицание в данном случае участвует в репрезентации не только эмоции гнева, но и презрения, указывает его семантическое наполнение: оно представляет собой устойчивое выражение гроша ломаного не стоит , которое обычно употребляется в значении «не представляет никакой ценности», по отношению к одушевленному объекту прямо указывает на реализацию презрения.
Так, в случаях выражения презрения, являющегося следствием первоначального раздражения, мы можем наблюдать закономерность – несоответствие имплицитного и эксплицитного планов выражения.
В рамках второй выделенной нами причины стоит отметить ее специфику в отношении мужской эмотивности: как правило пре-
КОММУНИКАЦИЯ И зрение такого характера направлено на объект, поведение которого представляется субъекту-мужчине не отвечающим гендерным стереотипам, объектом при этом может быть не только мужчина, но и женщина: «Он ей сказал, что если она за него не выйдет, он дом продаст, а сам пойдет по деревням кастрюли лудить. Она сперва ершилась, а потом согласилась. Влюблена, что ли, – презрительно добавил Петька и плюнул» (Каверин); «Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы, ни минуты не медля, должны махнуть в Туркестан» (Каверин) – в обоих случаях выражение презрения обусловлено проявлением объектом эмоциональной слабости: в первом случае субъектом выступает женщина, неодобрительная оценка ее поведения выражена при помощи экспрессивно окрашенной лексемы ершилась, прямой номинации в сочетании с глаголом речевой деятельности – презрительно добавил и единицы контекстуальной эмотивности плюнул – стоит отметить, что объект не присутствует при этом непосредственно; во втором случае, в котором презрение направлено прямо на объект-мужчину, репрезентация характеризуется в большей степени открытым высмеиванием проявленной эмоциональной слабости при помощи единиц контекстуальной эмотивности, описывающих не однократное, а продолжительное, целенаправленное выражение презрения: дразнил, упрекал в трусости, презрительно смеялся.
Использованный в первом примере глагол плюнул можно назвать одним из характерных признаков выражения презрения – семантически и словообразовательно он связан с такими лексемами и выражениями, как плевать хотел , наплевать , несущими в своей семантике отрицательную оценку и эмоциональную окраску. В контексте мужской эмо-тивности данный глагол используется и при репрезентации такой негативной эмоции, как отвращение.
В отношении женской эмотивности выражение презрения субъектами может быть обусловлено разнообразными причинами, в частности выделяется свойственная и мужс-
ПЕРЕВОД В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ кой эмотивности – проявление объектом эмоциональной или физической слабости: «Лактометр! – заорал я и со всех ног побежал к помойке. – … Взорвался! … Катька еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели. – Балда , это гремучий газ взорвался, – сказала она с презрением … – Подумаешь, градусник разбил!» (Каверин) – как и в примерах, которые мы рассматривали в рамках мужской эмотивности, презрение, обусловленное данной причиной, может быть направлено на объект-мужчину и связано с типичными представлениями о «мужественном» и «недостаточно мужественном» поведении. В данном случае в репрезентации участвует глагол речевой деятельности в сочетании с прямой номинацией презрения при помощи базовой лексемы – сказала с презрением – и эмотивного обращения балда , имеющего негативно-оценочную окраску и в приведенном контексте оттенок насмешки, которая направлена на объект-мужчину, чье поведение кажется субъекту слишком эмоциональным, не соответствующим гендерным стереотипам.
Выделяется и другая, специфическая для женской эмотивности причина – осознание уязвимости своего положения в коммуникативной ситуации. Такой тип причин влечет за собой выражение презрения субъектом-женщиной не только как рефлексии, отражения внутреннего переживания, но и как осознанно или неосознанно выбранной коммуникативной стратегии, находящей репрезентацию в средствах внешнего проявления: «Чем ближе мы подходили к школе, тем все важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь… – Ты не говори, я сам, – пробормотал я Катьке… Она презрительно фыркнула» (Каверин); «Я если захочу, то и вас одолею. – Да ну? – Она ответила ему презрительным смешком и удалилась походкой многоопытной женщины» (Гранин) – как видно из примеров, репрезентация презрения как коммуникативной стратегии преимущественно выражается в описании языка тела, поведения, помимо номинации базовой лексемой – презрительно фыркнула, ответила презрительным смешком. Можно отметить, что при выражении презрения как ком- муникативной стратегии интенсивность эмоции, заявленная базовой номинацией, имплицитно усиливается при помощи лексем, которые тоже несут в своем значении компоненты, отсылающие к презрению, насмешке – фыркнула, смешок. Помимо этого, презрение выражается описательными оборотами, которые призваны подчеркнуть самостоятельность субъекта-женщины, то, что она не нуждается в помощи, защите со стороны объекта-мужчины, как в первом примере, или что она может стоять наравне с мужчиной, не потерпит пренебрежения к себе, как во втором примере. Это может выражаться во всем внешнем виде субъекта, при помощи наречия важнее – становилась важнее, важно что-либо сказала, важно посмотрела – в значении «гордо держать себя»; или отдельных эмотивов, которые также призваны подчеркнуть независимость, самостоятельность субъекта-женщины, в которой ей пытаются отказать – закинув голову, независимо щурясь. Примечателен и развернутый описательный оборот во втором примере, наделяющий субъект-женщину сразу несколькими характеристиками – для репрезентации выбран глагол удалилась, который имеет в своем значении оттенок важности, особого характера действия, что проявляется в сочетании с лексемой походка – особая, выделяющаяся среди других манера ходить; наконец, это походка многоопытной женщины – подчеркивается не только опыт, как некоторое объективное качество, но и как некоторая особенная характеристика, которая может быть свойственна женщине вообще.
Подробно рассмотрев объективацию мужской и женской эмотивности в рамках выражения такой эмоции, как презрение, можем сделать вывод, что применительно к использованию языковых средств наблюдаются различия как в отношении интенсивности выражения эмоций, так и в отношении некоторых специфических причин, их вызывающих, анализ фактического материала также позволил установить, что зависимость интенсивности выражения от объектной направленности в большей степени свойственна мужской эмотивности. Противоположные тенденции были нами выявлены и в отношении вербального выражения.
Помимо различий, можно отметить и сходства: в первую очередь они заключаются в общности комплекса основных групп причин, вызывающих презрение. Сходства наблюдаются и в ретрансляции гендерных стереотипов – как субъектами-мужчинами, так и субъектами-женщинами.
Список литературы Гендерные особенности выражения презрения в русском языке (на материале художественной литературы XX века)
- Девкин, В. Д. Немецкая разговорная речь: Синтаксис и методика / В. Д. Девкин. - М.: Междунар. отношения, 1979. - 256 с.
- Изард, К. Э. Психология эмоций: пер. с англ. / К. Э. Изард. - СПб.: Питер, 1999. - 464 с.
- Кунин, А. В. Фразеология современного английского языка / А. В. Кунин. - М.: Высш. шк., 1996. - 380 с.
- Самылина, Е. В. Оценочность, эмоциональность, экспрессивность и стилевая принадлежность русских и английских процессуальных фразеологизмов со значением физической деятельности и физического состояния / Е. В. Самылина // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2011. - № 2 (8). - С. 124-130.
- Шаховский, В. И. Эмоции как объект исследования в лингвистике / В. И. Шаховский // Вопросы психолингвистики. - 2009. - № 9. - С. 29-41.
- Schrauf, R. W. The Preponderance of Negative Emotion Words in the Emotion Lexicon: A Cross-Generational and Cross-linguistic Study / R. W. Schrauf, Sanche J. // Journal of Multilingual and Multicultural Development. - 2004. - Vol. 25 (2/3). - P. 266-284.