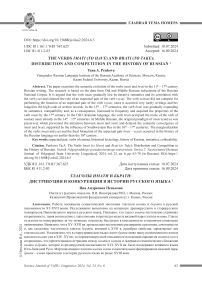Глаголы имати и бьрати: дистрибуция и конкуренция в истории русского языка
Автор: Пенькова Я.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена семантической эволюции глаголов имати и бьрати в русской письменности XI-XVII веков. Исследование выполнено на материале древнерусского и старорусского подкорпусов Национального корпуса русского языка. Показано, что глагол имати постепенно утрачивал итеративность, теряя соотнесение с глаголом яти и претендуя на роль видовой пары глагола възяти. Глагол възимати не конкурировал за эту позицию, поскольку был редок в письменности и ограничен книжными памятниками. Выявлено, что в XV-XVII вв. происходило постепенное расширение семантики, сочетаемости и, как следствие, частотности глагола бьрати, который к XVII в. приобрел свойства, характерные для глагола имати. Установлено, что в староукраинском языке глагол брати занял нишу полнозначного глагола контакта имати уже в XIV-XV вв.; в старовеликорусской письменности исконная парадигма имати (емлю) сохранилась, что препятствовало аттракции между имати и имѣти и задержало семантическое сближение имати и брати, которое в среднерусской письменности XVI-XVII вв. было поддержано влиянием языка Юго-Западной Руси. Маргинализация глаголов имати и яти и окончательное формирование видовой пары брати - взяти произошли в истории русского языка не ранее XVIII века.
Аспектуальная пара, глаголы контакта, историческая лексикология, история русского языка, семантика, сочетаемость
Короткий адрес: https://sciup.org/149147515
IDR: 149147515 | УДК: 811.161.1’0:81’367.625 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.6.5
Текст научной статьи Глаголы имати и бьрати: дистрибуция и конкуренция в истории русского языка
DOI:
Работа посвящена эволюции семантики глаголов контакта имати и бьрати 2 в истории русского языка, сходствам и различиям в их дистрибуции и истории их конкуренции, в результате которой глагол имати вышел из употребления, а глагол бьрати , напротив, существенно расширил свою семантику и сочетаемость, вытеснив глагол имати и превратившись в видовую пару глагола възяти .
Глагол брать в современном русском языке имеет очень высокую частотность. По данным основного корпуса Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ), она составляет 222,9 ipm 3 (83 460 примеров на 374 449 975 слов). Этот глагол в современном русском литературном языке также обладает очень широкой многозначностью: у него выделяется 14 значений, для большинства из которых видовой парой служит глагол взять , ср.: «БРАТЬ, берý, берёшь; прош. брал, -ла́, бра́ло; несов., перех. ( сов. взять )» (МАС, т. 1, с. 113).
Глагол имать в современном русском литературном языке отсутствует и сохраняется только в говорах в значениях ‘брать; хватать, ловить; обхватывать; задерживать; набрать, собрать; отнимать; снимать (урожай); брать с собой’ и др. (СРНГ, с. 189).
В древнерусской письменности ситуация была совершенно иной. По данным (СДРЯ, т. 1, с. 351), в картотеке Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. содержится всего 18 карточек с контекстами употребления глагола бьрати , а в древнерусском корпусе (на момент обращения содержавшем 838 928 слов) обнаруживается 17 примеров. При этом в берестяных грамотах этот глагол не зафиксирован вовсе, хотя контекст бытовых писем для него оказывается весьма подходящим. Невысока частотность этого глагола и в объемном (9 251 633 слова) старорусском корпусе: всего 417 примеров.
Глагол бьрати не был таким многозначным в древнерусском языке, как в современ- ном русском, у него выделялось всего четыре значения: ‘брать, собирать что-л. руками’, ‘взимать’, ‘приобретать, присваивать’ и ‘переносить’, причем последние два проиллюстрированы в СДРЯ всего одним примером каждое (СДРЯ, т. 1, с. 351).
В среднерусской письменности брати известен также в значении ‘вышивать, ткать узорами’:
-
(1) А которая женьщина или дѣвка рукодѣльна, и той дѣла указати: рубашка дѣлати или убрусъ брати , или ткати (Домострой, 1500–1560) 4.
Несмотря на то что этимологически брати в этом значении представляет собой тот же глагол, что и в перечисленных выше значениях (Аникин, с. 172), в настоящей работе такое специальное употребление мы не рассматриваем, так как оно не пересекается с семантикой глагола имати . Мы также исключаем из рассмотрения омоним брати как неполногласный вариант к бороти , ср.:
-
(2) кротъкаго оученика ороужаѥть дх҃ъ добрѣ брати могоуще. (πολεμεῖν). ПНЧ XIV, 21б (СДРЯ, т. 1, с. 321).
Ситуация с глаголом взять , который в современном русском языке является видовой парой брать , в древнерусском языке была иной: в древнерусском корпусе възяти встречается в 1477 контекстах, в (СДРЯ, т. 2, с. 148) указано, что примеров в картотеке более двух тысяч, а в старорусском корпусе этот глагол представлен более чем в 20 тысячах контекстов (20 673 примера на момент обращения).
Уже на основании этих данных можно с уверенностью говорить о том, что бьрати и възяти в древне- и даже среднерусский периоды еще не являлись видовой парой, и такая ситуация сложилась в русском литературном языке достаточно поздно – не ранее XVIII века. Кандидатами на роль аспектуальной пары для глагола възяти были сразу несколько глаголов: възимати, имати и бьрати. На словообразо- вательном уровне имперфективом от възяти являлся именно глагол възимати, тогда как имати был имперфективом глагола ꙗти.
Необходимыми условиями к семантическому сближению бьрати и възяти должны были стать, во-первых, утрата глаголом възяти древнего пространственного значения ‘поднять’ (3), обусловленного семантикой приставки въз -; во-вторых, расширение семантики бьрати (о которой пойдет речь ниже), в-третьих, выход из употребления глагола имати , в-четвертых, ограничение семантики глагола възимати , который в русском языке XI–XVII вв. употреблялся намного шире, чем в современном, и также мог претендовать на роль видовой пары глагола възяти , ср.:
-
(3) Вьзьмѣте , врата, кънѩѕи ваши (SJS, v. I, p. 298);
-
(4) Взимает в руку свою крохи , яко гладна. Пов. П. и Февронии (Скр.), 237. XVI в. ~ XV в. (СлРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 151).
Важно отметить, что низкая частотность глагола бьрати не связана с тем, что перед нами инновация – напротив, бьрати является праславянским образованием, восходящим к праиндоевропейскому, ср.:
«Из прасл. *bьrati *berǫ ‛брать, отбирать, хватать, срывать, собирать (ягоды и др.)’, ‛получать, занимать, принимать’, ‛заключать брачный союз’, *bьrati sę ‛браться; отправляться, собираться’ ‛бороться’, ‛сочетаться браком’… ~ и.-е. *bher(ə)- ‛нести, приносить; вынашивать плод, рожать’» (Аникин, с. 172).
Глагол имати исконно представляет собой итератив глагола ꙗти (ст.-сл. ѩти). Первый имеет в истории русского языка два набора презентных форм: древняя парадигма по типу емлю, емлеши и аналогическая парадигма имаю, имаеши, возникшая под влиянием форм от основы инфинитива (о конструкциях с има-ти в истории русского языка см. [Пенькова])5. Постепенно глагол имати утрачивал итеративную семантику: ср. форму вторичного им-перфектива имывати (СлРЯ XI–XVII, вып. 6, с. 231), с очевидностью свидетельствующую о том, что глагол имати уже не ассоциировался с выражением узуальности и хабитуальности (о вторичных имперфективах см.: [Шевелева, 2016]). Показательно, что имати мог даже развивать перфективные употребления (см. не- которые примеры ниже). В среднерусской письменности такие примеры спорадически встречаются и у производных (ср. взимати ‘поймать, схватить’ (СлРЯ XI–XVII, вып. 32, с. 411]), а также зафиксированы в архангельских говорах (СРНГ, с. 189).
У глагола имати в древнерусском языке, согласно СДРЯ, представлены не полностью совпадающие наборы значений в зависимости от типа парадигмы. У форм с исконной парадигмой емлю, емлеши ( имати 1) выделяются значения ‘брать, хватать’, ‘получать в собственность’, ‘захватывать, овладевать’, ‘иметь’ и семантически выветренное употребление, в котором этот глагол означает действие по значению абстрактного существительного (СДРЯ, т. 4, с. 144–145):
-
(5) [половцы] емлюще иконы зажигаху двери. ЛЛ 1377, 77 об.;
-
(6) а даръ имати тобе ѿ техъ волостии. Гр 1264–1265 (1, твер.);
-
(7) и побѣгоша л(ю)дье изъ града. и повелѣ ѡльга воемъ своимъ имати е. ЛЛ 1377, 17;
-
(8) и шьдъ прода все ꙗже имаше Пр 1383, 33а;
-
(9) послаше новъгоро(д) юрьꙗ и ꙗкима къ кн҃з<ю> к михаилѣ на тфѣрь а велѣлѣ миръ имати на семь. Гр. 1372 (новг.).
В примере (8), однако, форма имаше может быть прочитана и как имперфект глагола имѣти без обозначения мягкости сонорного /м/.
У глагола имати с парадигмой имаю , имаеши ( имати 2), согласно (СДРЯ, т. 4, с. 145), выделяются значения ‘схватывать, захватывать’, ‘привлекать, приглашать’, ‘иметь’ и употребление в качестве вспомогательного глагола для образования будущего времени, ограниченное южно- и западнорусскими памятниками (последний тип употребления мы в настоящей работе не рассматриваем, см. о нем: [Пенькова]):
-
(10) а наши по ни(х) погнаша. ѡвы сѣкуща. ѡвы имающе . и ꙗша ихъ. руками. ЛИ ок. 1425, 199 (1172);
-
(11) безаконьно бо ѥсть тако свѣдительство. но да имаить инѣхъ свѣдител. РПрМус сп. XIV, 2;
-
(12) М(с)ць апри(л). рекомыи берозозолъ имаѥть дни ·л҃·. Пр 1383, 26г.
Однако, как видно из примеров, которыми в СДРЯ иллюстрируются соответствующие значения, в ряде случаев приводятся контексты с формами инфинитива и прошедшего времени, которые не могут быть однозначно атрибутированы имати1 или имати2. Поэтому данные словаря следует немного скорректировать: формы типа емлю, емлеши никогда не встречаются в источниках в значении ‘иметь’. Такое употребление зафиксировано только у форм типа имаю, имаеши и у формы имперфекта, если мы интерпретируем ее как форму глагола имати, а не имѣти, то есть надежно только у имати2, что, по-видимому, не случайно и объясняется паронимической аттракцией с глаголом имѣти, которая развивается за счет фонетического сходства форм презенса.
Таким образом, имати 1 представлен в письменности в значениях ‘брать, хватать’, ‘получать в собственность’, ‘захватывать, овладевать’, а имати 2 – в значениях ‘схватывать, захватывать’, ‘привлекать, приглашать’, ‘иметь’ и в качестве вспомогательного глагола в конструкции с инфинитивом.
Обратим внимание на то, что у глагола имати 1 выделяются, с одной стороны, значения, которые хорошо коррелируют с семантикой възяти ‘взять в руки’, ‘взять в собственность, отнять’, ‘принять, получить’, ‘захватить’, ‘забрать, отобрать’, а с другой, – такие, которые хорошо соответствуют значениям глагола ꙗти ‘схватить, взять в плен’ (17), ‘привлечь’ (18), который очень рано закрепился как глагол СВ [Шевелева, 2021, с. 34–35]. Например:
-
(13) самъ же възьмъ сѣчиво нача сѣчи дръва. ЖФП XII, 42в (СДРЯ, т. 2, с. 148);
-
(14) Игорь… вземъ оу Грекъ злато и паволоки. ЛЛ 1377, 11 (944) (СДРЯ, т. 2, с. 148);
-
(15) дароуи малоѥ и възьми вѣчьноѥ. Изб 1076, 13 об. (СДРЯ, т. 2, с. 148);
-
(16) вз ѧ лъ кн҃зь михаило. горо(д) торжокъ Гр 1373 (2, новг.) (СДРЯ, т. 2, с. 149);
-
(17) али же ни то аще имуть мѧ не погубѧть мене. но ꙗкоже прѣже ркохъ ведут мѧ къ брату (Нестор Печерский. Сказание о Борисе и Глебе по Сильвестровскому сборнику, вторая пол. XI в.);
-
(18) оже иметь на желѣзо по свободьныхъ людии речи… аже не ѡжьжетьсѧ то про мѹкы не платити ѥмѹ нъ ѡдино желѣзноѥ кто будеть ꙗлъ (Русская правда, середина XI в.).
Различия между възяти и ꙗти в древнерусский период, по наблюдениям М. Н. Шевелевой, заключались в том, что възяти выражал «нейтральное значение ‘взять’ без дополнительной коннотации резкого и быстрого... захватывания во владение» [Шевелева, 2021, с. 35], тогда как последнее как раз характерно для глагола ꙗти , который «преобладает в значении ‘взять в плен, арестовать’» [Шевелева, 2021, с. 36], т.е. «обнаруживает тенденцию к семантической специализации» [Шевелева, 2021, с. 36], ср. также ниже наше указание на то, что възяти в древнерусской письменности практически не фиксируется с одушевленным существительным в позиции прямого дополнения. Напротив, для имати , как показано М. Н. Шевелевой, такой тенденции к специализации не усматривается [Шевелева, 2021, с. 37].
Помимо семантической близости к възя-ти , глагол имати , как и възяти , был достаточно частотным в узусе (20 примеров в берестяных грамотах, 258 примеров в древнерусском и 4523 примера в старорусском корпусе).
Обобщим количественные данные по употреблению бьрати , имати , ꙗти , възимати и възяти (табл. 1).
Цель настоящей работы – исследовать процессы и выявить причины, в результате которых глагол бьрати превратился в аспек-
Таблица 1. Количественная представленность глаголов бьрати , имати , възимати, ꙗти , възяти и в различные периоды истории русской письменности
Table 1. Frequency of the verbs brati , imati , yati , vzimati , vzyati in different historical periods of Russian writing
|
Глагол |
Древнерусский корпус |
Старорусский корпус |
Корпус XVIII в. |
|
бьрати |
17 |
417 |
1405 |
|
имати |
258 |
4523 |
529 |
|
ꙗти |
666 |
1188 |
7 |
|
възяти |
1477 |
20673 |
5467 |
|
възимати |
84 |
237 |
34 |
туальную пару к възяти , вытеснив из данной позиции итератив имати , который вовсе вышел из употребления, и итератив възимати , который существенно сузил свою семантику.
Проблема семантического сближения бьрати и имати уже становилась предметом исследования (см.: [Добромыслова, 1968; Пятаева, 1997; 2007; 2009]). Наиболее значимыми из перечисленных работ являются докторская диссертация и монография Н. В. Пятаевой [2007; 2009], где показаны основания для семантического сближения этимологических гнезд с корнем * ber - и * em , состоявшие в том, что гнездо с корнем * ber -в праславянском языке утрачивало связь с индоевропейской семантикой ‘нести’, приобретало значения ‘брать (в руки), хватать’, что обеспечило синонимию с этимологическим гнездом корня * em [Пятаева, 2009]. В качестве причины вытеснения глагола имати глаголом брати Н.В. Пятаева называет то, что объем значений последнего превысил объем значений первого [Пятаева, 2009]. Полагаем, что это стало следствием, а не причиной вытеснения имати . О других возможных причинах распространения глагола брати в русской письменности см. ниже. Н.В. Пятаева также отмечает дублетность глаголов брати и ꙗти и выход из употребления наименее емкого ꙗти в языке XVIII века. Необходимо сделать уточнение: ꙗти , как показано М.Н. Шевелевой, достаточно рано начинает вести себя как глагол совершенного вида [Шевелева, 2021, c. 34–35], поэтому о дублет-ности брати и ꙗти говорить не приходится, а скорее следует иметь в виду конкуренцию между перфективами възяти и ꙗти . Видовая пара брать – взять формируется, по мнению Н.В. Пятаевой, за счет того, что възимати семантически существенно расходится с възя-ти . Однако възимати недолго претендовал на роль видовой пары к възяти , поскольку в среднерусский период имел низкую частотность в письменности и, по-видимому, был маркирован как книжный глагол: так, согласно древнерусскому и старорусскому корпусу, он не фиксируется ни в берестяных грамотах, ни в памятниках деловой письменности.
Масштабное исследование Н.В. Пятаевой безусловно ценно именно тем, что оно выполнено с акцентом на анализ этимологи- ческих гнезд, благодаря чему в нем показаны семантические связи внутри генетической парадигмы «дать – брать – взять – иметь – нести – давать».
В настоящей работе фокус будет на глаголах имати и бьрати , их семантической сочетаемости и особенностях дистрибуции в памятниках русской письменности на общевосточнославянском фоне с привлечением статистических данных из исторических корпусов, что позволит глубже понять историю конкуренции глаголов имати и брати .
Материалом исследования послужили исторические корпуса НКРЯ (древнерусский и старорусский) и исторические словари. Для исследования мы отобрали все контексты употребления глаголов бьрати и имати из древнерусского корпуса, все контексты с бра-ти из старорусского корпуса и 450 примеров с глаголом имати – количество, сопоставимое с объемом контекстов с брати , поскольку има-ти в старорусском корпусе чрезвычайно частотен: встречается более 4 тыс. раз (см. табл. 1).
Результаты и обсуждение
Сочетаемость глагола бьрати в древнерусской письменности (XI–XIV вв.)
В древнерусский период субъект при глаголе бьрати всегда был одушевленным. Возможные в современном русском языке употребления с абстрактным именем существительным в позиции субъекта (вроде тоска , зло берет ) для древнерусского глагола были нехарактерны. Они фиксируются только в русском языке XVIII в. (СлРЯ XVIII, с. 130–133), ср.:
-
(19) Я без пива курить не могу, ибо с табаку жажда берет . Дом. разг. 53;
-
(20) [Стародум:] Я боялся разсердиться. Теперь смѣх меня берет . Фнв. Недор. 67.
Та же особенность отмечается и для глагола имати . Возможность присоединять пропозициональное имя в позиции субъекта отмечается у данного глагола крайне редко, словарь XVIII в. такие употребления не фиксирует, единственный пример из источника XVIII в. приведен в (СлРЯ XI–XVII, вып. 6, с. 225):
-
(21) Бес притчи трясца не емлетъ . Послов. Паус., 2. XVIII в.
Различия между имати и бьрати связаны с тем, какие имена существительные употребляются в позиции прямого дополнения.
По данным НКРЯ и СДРЯ, в качестве прямого дополнения в контексте с бьрати встречаются следующие имена существительные (табл. 2).
Как видно из данного списка, в текстах представлены только неодушевленные существительные. Показательно также, что большое количество слов в приведенном выше перечне – собирательные имена существительные ( овощь , вино , товаръ , злато , скотъ , имѣние , богатьство , туска , дань ). Этот факт, судя по всему, объясняется сохранением у бьрати древнего значения ‘собирать’; это же значение сохраняется и во многих южнославянских языках (см.: ЭССЯ, т. 3, с. 163). По-видимому, данное значение, связанное с идеей накопления, реализуется и в контекстах с существительными типа имѣние , богатьство : в последнем случае в [Добромыслова, 1968, c. 222] также предлагается значение ‘накапливать’, хотя СДРЯ рассматривает здесь бьрати в значении ‘приобретать’ (СДРЯ, т. 1, с. 351):
-
(22) А мы сщ҃ници ѿ людии кормлю и ѡдежю приємлемъ всегда не трѹдѧсѧ чюжаꙗ грѣхы ѣмы. хлѣбъ приимаꙗ ѿ людии небреженьємь не имамъ книгъ. ни готовыхъ почитаємъ. толико имѣниє беремъ села кони различьє ризъни (Поучения св. Евсевия, до середины XII в.);
-
(23) инии же по морю плавающи. по земли гостьбы дѣюще и бероуще бат ҃ ьство . Пр 1383, 132б (СДРЯ, т. 1, с. 351).
В контексте со словом товаръ глагол бьрати употребляется в очень архаичном значении ‘переносить’, восходящем к значению ‘нести’, которое реконструируется у данного глагола в еще в праиндоевропейском:
-
(24) Товаръ иж то потополъ брати ѹ место своею дружиною из воды на берегъ (Договор Смоленска с Ригой и Готландом (готландская редакция, список C), 1229, 1284, 1333–1341).
Сочетаемость глагола имати в древнерусской письменности
Согласно древнерусскому корпусу и материалам СДРЯ (СДРЯ, т. 4, с. 144–145), прямое дополнение глагола имати в этот период может быть выражено следующими именами существительными, субстантивированными прилагательными и количественными сочетаниями (см. табл. 3).
Как видно из приведенного ниже перечня, глагол имати в древнерусский период имел достаточно широкую сочетаемость: он мог употребляться как с неодушевленными, так и с одушевленными объектами. В роли первого могли выступать собирательные имена существительные ( темьянъ , пѣсъкъ , вълна , млѣко ). Отличие имати от глагола бьрати в таких сочетаниях заключается в том, что имати называет не сам процесс сбора, а его результат – получение, добывание того или иного продукта:
-
(25) да не на на(с̑) сбудуть(с̑) ре(ч̑)ноє. пасту-си волну и млеко ѿ ѻвець ємлють . а ѡ стадѣ не-брегуть (Поучения св. Евсевия, до середины XII в.);
-
(26) и многымъ караблемъ приходѧщимъ, и ємлющимъ . не ѡскѹдѣєть бо вѣтръ беспрестани. привѣваєть пѣсокъ и исплънѧєть (История Иудейской войны Иосифа Флавия, XI–XIII вв.).
Глагол имати также сочетался с различными названиями отчуждаемого имущества, сборов и пошлин ( дань , мытъ ), обозначениями различных видов дохода ( лихва , рѣзъ ) и собирательными названиями имущества и ценностей ( злато , сребро , богатьство ), употреблялся с количественными сочетаниями ( р ҃ талантъ ;
Таблица 2. Сочетаемость глагола бьрати в древнерусской письменности
Table 2. Collocation of the verb brati in Old Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
овощь, плевы, вино ‘виноград’, злато, глазъки ( стькляныи ), треба ( дивья ) |
|
Названия мер |
колода (овса), куны , куницы |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
товаръ (утонувший), скотъ ‘деньги’, имѣние ‘имущество’, богатьство , туска ‘особый вид дани’, дань , пошьлины |
нѣ съ пол ѹ торы тысѧце грв ҃ нъ ), в том числе с дистрибутивными сочетаниями с предлогом по ( имати по чему: по бплп и впверицп w дыма , по ·в ҃ · ногатѣ за возъ , по ·в· ҃ векши , по единой чаши , по мѹжю ). Такая сочетаемость у бьрати в древнерусский период не отмечена и развивается не ранее XV в. (см. об этом ниже).
В отличие от бьрати , в большом количестве контекстов имати употребляется с одушевленными именами существительными в значении ‘ловить, хватать; брать в плен’:
-
(27) ѣздѧху по онои сторонѣ днѣпра. люди ємлюще . а другыꙗ сѣкуще (Киевская летопись, 1119–1199);
-
(28) а кромѣ того иже по рови ѣздѧ ималъ ѥсмъ своима рукама тѣ же кони дикиѣ (Владимир Мономах. Поучение Владимира Мономаха, 1090-е – 1110-е).
Кроме того, глагол имати уже в древнерусский период употребляется с именами, которые называют абстрактные сущности, а также состояния или события ( миръ , вѣра , желание , прощение , соромъ и др.):
-
(29) <п>ослаше новъгоро(д) юрьꙗ. и ꙗкима. къ кнз<ю> к михаилѣ. на тфѣрь. а велѣлѣ. мир<ъ><и>мати на семъ аже бра(т̑)ю. нашю попуща<ти> без окупа (Наказ Новгорода послам Юрию и Якиму об условиях заключения мирного договора с князем Михаилом Александровичем, 1374 – начало 1375).
Показательно, что глагол възяти в древнерусский период также не сочетается с одушевленным объектом в значении ‘поймать, захватить, взять в плен’. В единственном примере с одушевленным именем существительным в позиции прямого дополнения възяти имеет значение ‘принять к себе в дом’ (СДРЯ, т. 2, с. 148):
-
(30) Того же лѣ(т)… родисѧ дщи оу Ростислава оу Рюриковича… приеха Мьстиславъ Мьстис-лавичь. И тетка еи Предислава. и взѧста ю . к дѣдоу и бабѣ. ЛИ ок. 1425, 242 об. (1199).
В этот период в значении ՙсхватить, поймать; взять в плен’ в контексте с одушевленным объектом еще широко употребляется глагол ꙗти [Шевелева, 2021]. Например:
-
(31) Которыи рѹсинъ или латинескыи имьть татѧ надъ тѣмь ѥ̈мѹ своꙗ вълѧ (Договор Смоленска с Ригой и Готландом (готландская редакция, список A), 1229, 1284);
-
(32) к семѹ же блж҃номѹ нѣколи приведоша разбоиникъ свѧзанъ. ихже бѣша ꙗли въ ѥдиномъ селѣ манастырьско(м̑) хотѧщ(а) красти (Симон Владимирский, Поликарп Печерский. КиевоПечерский патерик, первая треть XIII в.);
-
(33) аже ѹдарить по лицю или за волосы иметь или батогомь шибеть платити бесъ четверти гривна серебра (Договор Смоленска с Ригой и Готландом (рижская редакция, список E), 1229).
Таблица 3. Сочетаемость глагола имати в древнерусской письменности
Table 3. Collocation of the verb imati in Old Russian writing
Таксономические классы
Имена существительные
Материальные предметы или вещества
темианъ , пѣсокъ , вино ‘виноград’, смокъвы , вълна ‘шерсть’, млеко , злато , сьребро , желѣза , каменье , печати , паволоки , ѡ ружїє , дора , иконы , брашьна , з ҃ · хлѣбовъ , три чаши
Названия мер
куны , з ҃ · к нъ , · ·з ҃ · ѹбороковъ , ·з ҃ · лѹконъ, р ҃ гривенъ (новыхъ) , р ҃ талантъ , нѣ съ полѹторы тысѧце грв ҃ нъ
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого
богатьство, имѣние, задьница, свое, дань, хлѣбное, пошлины, обилье, искупъ, придатъкъ, мѣсѧчина, десѧтина, уроки, приносъ, съборьное, откупъ, изгоиство, погонъ, мытъ, повозъ, лихва, рѣзъ, мьзда, наимъ, переемъ, товары / товаръ, сорокоустье, руга, устанокъ, пьрсть, чѧсть, наклады, дары / даръ
Названия территорий
городы
Названия лиц, народов и животных
наставники, языки, люди, (человѣкъ) добраго рода, добрыи мѹжи, храбръ, выходѧщие (на събраниѧ зѣлиꙗ), коньчакъ, кобѧкъ, половцы, немчичь, смольнѧнинъ, челѧди, колодники, кони
Названия абстрактных сущностей, состояний и событий
вѣра, душа , желанїє , причащение , прощение , соромъ , съмьрть , миръ
Другое
головы , задъ ( дружины )
Также именно глагол ꙗти выступает в роли аспектуальной пары глагола имати в сочетаниях c существительным вѣра . Напротив, в контекстах с названиями различных сборов, а также с абстрактным существительным миръ употребляется възяти , а не оти :
-
(34) а холопъ или роба почнеть вадити на господѹ. томѹ ти вѣры не ꙗти . а на низѹ тобѣ кнѧже новгородчѧ не сѹдити. ни волости розда-вати. а кто почнеть вадити к тобѣ. томѹ ти вѣры не ꙗти (Договор Новгорода с князем Михаилом Ярославичем, 1307);
-
(35) Не ѥмли вѣры врагомъ своимъ въ вѣкы (Изборник 1076 г., перевод X в. [Болгария]);
-
(36) возьми дань юже ималъ ѡлегъ (Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку, 1110-е);
-
(37) повелѣше. весь новъгоро(д). юрью. и ꙗкиму. миръ взѧти . съ кн҃змь. с михаиломъ. а повелѣша. печати. приложити. изо всихъ пѧти кончевъ. къ сеи грамотѣ (Наказ Новгорода послам Юрию и Якиму об условиях заключения мирного договора с князем Михаилом Александровичем, 1374 – начало 1375).
Исконно представляющий собой итератив, глагол имати в значении ‘ловить, хватать; брать в плен’ уже в древнерусский период может утрачивать итеративную семантику, превращаясь в полный эквивалент глагола ꙗти , дериватом которого изначально является. Отсутствие итеративности наиболее очевидно в формах аориста, называющих однократное действие в прошлом в контексте с единичным объектом, однако возможно и в других формах, ср.:
-
(38) ѡн же има и, и ѡкова и, и посла и в волость свою володимѣрь. и пристави ємѹ сторожѣ (Киевская летопись, 1119–1199);
-
(39) и посла Бенедикта со воими. и ꙗ Романа в бани мыющасѧ (Галицкая летопись, 1201–1260);
-
(40) а ꙗзъ по немь иду ѥмлѧ задъ дружины ѥго (Лаврентьевская летопись, 1111–1305);
-
(41) <п>ослаше новъгоро(д) юрьꙗ. и ꙗкима. къ кнз<ю> к михаилѣ. на тфѣрь. а велѣлѣ. мир<ъ> < и>мати на семъ аже бра(т̑)ю. нашю попуща<ти> без окупа (Наказ Новгорода послам Юрию и Якиму об условиях заключения мирного договора с князем Михаилом Александровичем, 1374 – начало 1375).
С другой стороны, имати , утрачивая итеративность, семантически мог сближаться не только с ꙗти , но и со стативом имѣти . Такая особенность отмечается, однако, исключительно для аналогических форм типа имаю , имаеши преимущественно в юго-западных памятниках, что, по-видимому, способствовало грамматикализации конструкции « имати + инфинитив», выражающей деонтическую модальность, ср.:
-
(42) слышю же се. ꙗко сестрѹ имаете дв҃ою. да аще еꙗ не вдасте за мѧ. то створю гра(д) вашему ꙗко и сему створихъ (Повесть временных лет по Ипатьевскому списку, 1110-е);
-
(43) в сѹ(б҇)тѹ по взитии сл҃нца. дш҃а моꙗ ѿлѹчитсѧ имаѥть ѡ телесе сего (Симон Владимирский, Поликарп Печерский. Киево-Печерский патерик, первая треть XIII в.);
-
(44) а они имають держѧти . так(о) долго доколѧ… имо тыхо ·д҃· тисѧчи рублиі исполна не ѡ(т)дамы. Гр 1390 (2, ю.-р.) (СДРЯ, т. 4, с. 145).
Сочетаемость глагола брати в среднерусской письменности
Мы разделили существительные, встретившиеся хотя бы один раз в контексте с глаголом брати в позиции прямого дополнения, на три группы в зависимости от датировки источника (XV в., XVI в. и XVII в.). В этой позиции в текстах XV в. представлены следующие существительные, субстантивированные прилагательные и количественные сочетания (табл. 4).
Как видно из данного перечня, в текстах XV в. у глагола брати сохраняется преимущественная сочетаемость с неодушевленными
Таблица 4. Сочетаемость глагола брати в русской письменности XV в.
Table 4. Collocation of the verb brati in the 15th-century Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
ягоды , губы ‘грибы’, злато |
|
Названия мер |
5000 рублевъ |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
поборы , туска ‘особый вид дани’, дань, ( черный ) боръ ‘вид дани’, тамга ‘вид подати’, десятина ‘вид налога’, гостиное ‘вид пошлины’, пошлины , поворотное ‘вид пошлины’ |
|
Названия лиц |
третий ( судья ), одинъ ( из трехъ ) |
собирательными именами существительными. Редкие употребления в контексте с одушевленным объектом - третий ( судья ) - связаны со значением ‘выбирать’ (ср. также глагол из-брати в том же контексте), которое является производным от древнего ‘собирать’, также сохраняющегося в этот период, ср.:
-
(45) А о чем судьꙗ мои, кнꙗзꙗ великог[о], з брата моего судьею, брата моего молодшог[о], кнꙗз[ѧ] Дмитреꙗ Юрьевича Болшог[о], сопрутсꙗ, и они зовутсꙗ на третии, а берут себ[ѣ] третьего из моих боꙗръ, великог[о] кнѧз[ѧ], дву боꙗриновъ, изо кнꙗжих из Дмитриевых Юрьевич[а] боꙗръ Бол-шого, одиного боꙗрина из боꙗръ. А воимꙗнуетъ третьих тот, которои ищет, а тот берет, на котором ищут. А не изберутъ себѣ третьего ис тѣхъ трех боꙗринов, ино имъ третии ꙗзъ, кнꙗз[ь] велики (Докончание великого князя Василия Васильевича с князем галицким Дмитрием Юрьевичем. Грамота в. кн. Василия Васильевича кн. Дмитрию Юрьевичу, 1436.06.13);
-
(46) А хто ослышится сеи нашеи грамоты… а почнетъ лѣсъ сѣчи и пожни косити, и заяци гоняти или рыбы ловити, или ягоды и губы бра-ти , а безъ игуменскаго благословеніа, ино тотъ будетъ лишенъ лотки и сѣтеи, а за свою вину дасть намъ рубль (Грамота Вяжицкого монастыря монастырскому ключнику в Толвуе Якиму и монастырским толвуйским крестьянам с запрещением промышлять в принадлежащих Палеостровскому монастырю островах Пальем и других островах, 1477–1478).
В текстах XV в. преобладают сочетания брати с именами существительными, обозначающими различные виды сборов, пошлин, дани, поборов и т.д. По-видимому, именно такого рода употребления могли стать локусом семантических изменений, поскольку подобные словосочетания допускают две интерпретации: брати дань может означать как ‘собирать дань’– с фокусом на процессе сбора (видимо, именно таковым было первоначальное значение этого словосочетания), так и ‘взимать дань’ – с фокусом на результате, ср. также весьма частотные употребления figura etymologica брати поборы , брати боръ , подтверждающие изначальную связь с семантикой собирания:
-
(47) ні кормов оу ніх не ємлют, ні доводщи[ки] оу них поборов не берѹт (Жалованная тарханная и несудимая грамота в. кн. Вас. Васильевича Троице-Сергиева монастыря иг. Зиновию на с. Сватковское с дерр., в Верхдубен. стану Переясл. у., 1439.09).
Амбивалентность сочетаний глагола брати с названиями различного рода сборов хорошо видна на следующих примерах ниже. В примере (48) ( серебро браша на всеи Заволоцкои земли ) брати еще сохраняет дистрибутивное значение ‘собирать’, тогда как в примере (49) фокус с процесса собирания смещается на факт присвоения объекта, обладания им, на что дополнительно указывает возвратное местоимение себ^ :
-
(48) И приехаша владыка Евфимеи, а с ним послы новгородские, и докончаша другую 5000 сребра, а шестую тысячу на полону дашя, а то серебро брашя на всеи Заволоцкои земли , с десяти человекъ рубль (Новгородская Карамзинская летопись. Вторая выборка, первая половина XV в.);
-
(49) И по том гардиналовѣ часто начаша при-ходити от папы къ царю и патриарху, даже и к Сидору митрополиту, и съ многыми лестными рѣчми о сих, да не преодолѣвает Марко, ниже пререкует Латынѣ: да сотворите, рече, волю нашу, берущи себѣ злата множство, елика хощете (Московский летописный свод, 1479–1492).
В XV в. также появляются дистрибутивные конструкции « брати по чему», характерные и для имати (см. выше) и также амбивалентые, поскольку они могут иметь две интерпретации (‘собирать’ и ‘взимать’), ср.:
-
(50) А брати князя великого черноборцемъ на новоторжьскихъ волостехъ на всѣхъ, куды пошло по старинѣ, съ сохи по гривнѣ по новои (Грамота Великого Новгорода о предоставлении на год «черного бора» с Новоторжских волостей великому князю Василию Васильевичу, 1448–1461).
В источниках XVI в. в позиции прямого дополнения с глаголом брати употребляются следующие имена существительные, субстантивированные прилагательные и количественные сочетания (см. табл. 5).
Как видно из представленного перечня, с XVI в. брати расширяет свою сочетаемость, распространяясь также на существительные, не предполагающие идею множественности объектов сбора (вода, чаша в форме ед. ч.), на одушевленные имена (вои, веселые люди) и даже на абстрактные состояния (перемирие). В контексте брати вои (51) рассматриваемый глагол, расширяя сочетаемость, все еще сохраняет древнее значение ‘собирать’, тогда как в контексте брати перемирие (52) ситуация уже не подразумевает никакого вида множественности (ни дистрибутивности, ни итеративности):
-
(51) И се рек, утеши Всеволода, и повеле бра-ти вои от мала и до велика, и бысть вой бесчислено (Холмогорская летопись, 1540–1560);
-
(52) А что твои панове говорятъ, коли бы то земля наша была и нам было што с нею перемирие брать ? (Иван Грозный. Послание польскому королю Стефану Баторию, 1581).
В текстах XVI в. появляются конструкции « брати чем», также свидетельствующие о смещении фокуса с процесса (‘собирать’) на результат (‘взимать в виде чего-л.’):
-
(53) даеть и берет ценою , и мерою , и вагою и прославленъ добром (Тайная Тайных, последняя треть XV в. – первая половина XVI в.).
Приведем перечень имен существительных, употребляющихся в позиции прямого дополнения глагола брати в источниках XVII в. (см. табл. 6).
Как видно из приведенного перечня, в XVII в. еще сохраняется исконное значение ‘собирать’ (ср. ягоды , грибы , рыжики , цвѣты , землеплодное , ленъ ) и производное от него значение ‘добывать’ (ср. земля , руда , каменья ). Также представлен довольно широкий перечень существительных, называющих различные сборы, пошлины и денежные единицы, при этом данная группа пополняется существительными других близких семантических классов (ср., например, жалованье , плата ; названия документов отписи , листы , памяти ), связанных уже не с процессом сбора, а только с получением:
-
(54) И мы сена, г(о)с(у)д(а)рь, не отдавали и памяти не брали , а по сена к нам не бывали (Грамотка приказчика М. Тимофеева и старосты С. Климова из с. Чубарово, 1669.12.05).
В приведенном ниже списке представлены и имена, называющие одушевленные объекты, при этом брати в таких контекстах
Таблица 5. Сочетаемость глагола брати в русской письменности XVI в.
Table 5. Collocation of the verb brati in the 16th-century Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
овощь , злато , сребро , чаша , вода |
|
Названия мер |
5.000 рублевъ , мѣхъ ‘разновидность торговой меры’ |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
деньги , мзда , поборы , дань , пошлины , тамга ‘вид подати’, мытъ ‘вид пошлины’, пятно ‘вид пошлины’, кормъ / кормы , ( черный ) боръ ‘вид дани’, полавочное ‘вид пошлины’, поворотное ‘вид пошлины’, бражное ‘вид пошлины’ |
|
Названия лиц и животных |
вои , веселые люди ‘скоморохи’, кони |
|
Названия абстрактных сущностей, состояний, событий |
перемирие |
|
Другое |
от пророков и апостолов вкратце |
Таблица 6. Сочетаемость глагола брати в русской письменности XVII в.
Table 6. Collocation of the verb brati in the 17th-century Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
ягоды , грибы , рыжики , цветы , землеплодное , ленъ , земля , руда , каменья , сребро , хлѣбъ , рожь , лубья , столъ , кормъ , шти , варанчюгъ , соль , кожи , подвода , секраментъ , антидоръ |
|
Названия документов |
отписи , листы , памяти |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
товары , доходы , запасы , поборы , дань , пошлины , спусковое , оброкъ , поминки , выходы , пятина , руга , подати , деньги , казна , полонъ , ясакъ , жалованье , плата , посулы |
|
Названия лиц, народов и животных |
гетманъ , дѣти , десять человек , полонѣники , турки , дѣвки , лошади , бораны, пчелы |
|
Названия абстрактных сущностей, процессов, событий |
вышина , ширина , ( псовая ) охота , потребы |
означает уже не ‘собирать’, а ‘ловить, хватать’, что семантически сближает его с имати и ꙗти .
В этот период взяти также приобретает способность сочетаться с одушевленным объектом, тогда как в более раннюю эпоху такие контексты были закреплены за глаголом яти :
-
(55) Боярину ж князю Алексею Микитичю за конотопскую службу 167-го и 168-го году за большой бой с крымским ханом, и что он брал гетмана Юрья Хмельницкого , придачи двесте рублев (Боярская книга, 1658);
-
(56) А яже имаху пленникы , овѣх посѣкаху, другыя мучяху, ини же растрѣляху, а другыа в море метаху (Новгородская Карамзинская летопись. Первая выборка, первая половина XV в.);
-
(57) Како Кучюмова сына царевича Ма-меткула взяша жива (Строгановская летопись по списку Спасского, 1630–1640).
В источниках XVII в. шире употребляются дистрибутивные конструкции « брати по чему» ( по дватцати алтынъ , по рублю да по пуду меду , по четыре копеики , по четверику , по 1600 дукатов ) и « брати чем» ( всякими товары ; лисицами черными, чернобурыми, бобрами і выдрами і всякимъ звѣремъ ).
В текстах конца XVII в. также появляются новые конструкции « брать кого в кого» и « брать кого за руку»»:
-
(58) Да он же, старец, берет нас , сирот, на-сильством от сох и от кос в гребцы , и в кормщики , и в прорежные лотки , и в караульщики , и ко всякому рыбному промыслу. (Крестьяне патриаршего с. Тарки Ярымовской вол. Муромского у. патриарху Адриану о злоупотреблениях посельского старца Иоанна Святоозерского, 1694.12.01–1694.12.07);
-
(59) И когда сойдутся в машкарах на площадь к соборному костелу святаго Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцов приезжих, и гуляют с ними, и забавляются без стыда (П. А. Толстой. Путешествие по Европе, 1699).
Следует также отметить и сочетаемость с абстрактными существительными, еще не настолько широкую, как в современном русском языке, но уже не невозможную:
-
(60) і когъда бокъ і половина съверху готова, тогъда шъпанъгоуты дѣлай: бери вышину въсемъ мѣстамъ о(тъ) боковой ѳигуры, а ширину отъ половины, і такъ добро (Петр I. Отрывок из учебных записок по кораблестроению, 1697.08–1697.12).
Таким образом, сочетаемость глагола брати в XVII в. продолжала расширяться, приближаясь к той, которая характерна для него в современном русском языке, однако древние значения в этот период еще не были утрачены. Семантически брати в этот период приобретает ряд свойств, которые были характерны для глагола имати еще в древнерусский период, и существенно сближается с глаголом взяти , претендуя на роль его видовой пары, ср.:
-
(61) Да он же [п]риказнои ч(е)л(о)в(е)к выпустил из вашеи, г(о)с(у)д(а)ри, три [д]ѣвки, а брал за дѣвку выводу по дватцати алтын и бол(ь)ши, и за три дѣвки взял два рубли с четвертью (Челобитная крестьян д. Ивашкова, 1670.03.13);
-
(62) И та Аннушка никому о том не объявила, толко мамку взяла за руку и отвела от тех девицъ и стала ей говорить искусно: «Что ты надо мною зделала?» (Повесть о Фроле Скобееве, конец XVII в. – первая треть XVIII в.);
-
(63) Потомъ по широкомъ шпанътгоуть възять ширину противъ шхерганта і поставить отъ черты выше, а назади половина шпигиля, а напереди на адтрокъ ѳорштевену (Петр I. Отрывок из учебных записок по кораблестроению, 1697.08–1697.12).
Показательно, что глагол брати приобретает значение ‘брать в руки’ достаточно поздно 6, в то время как для глаголов с корнем им -( имати , яти и взяти ) это значение исходное.
Сочетаемость глагола имати в среднерусской письменности
Приведем перечень имен существительных, субстантивированных прилагательных и количественных сочетаний, употребляющихся в позиции прямого дополнения глагола имати в источниках XV в. (см. табл. 7).
Как видно из приведенного перечня, сочетаемость глагола имати в XV в. во многом сохраняет особенности, которые отмечаются в текстах древнерусского периода. Одно из немногих отличий – сочетание с существительными, обозначающими определенную территорию ( отчина , украина ), хотя и в древнерусский период зафиксированы контексты со словом городъ . Другое отличие – сочетание с абстрактными существительными, которые не употреблялись в позиции прямого объекта глагола имати в древнерусской письменности ( помочь , любовь , слово , р^чь ).
|
Приведем перечень имен существитель- а также на появление устойчивых формул ных, субстантивированных прилагательных и имати кого на государство – контексты, не количественных сочетаний, употребляющихся отмеченные для брати , ср.: в позиции прямого дополнения глагола имати в источниках XVI в. (см. табл. 8). (64) Того же лета имали татарове тульскую Существенных изменений в сочетаемо- УкРаинУ , Сежу (Постниковский летописец, 1560–1570); сти имати в письменности XVI в. в сравнении (65) Изначала же, тебя емлючи панове на с текстами XV в. не отмечается. Можно обра- , государство , на том тебе к присязе приводили, что тить внимание на более широкое вовлечение тобе всих давно зашлыхъ дел отъискивати, – ино имен существительных, обозначающих ту или на што было и послов посылати? (Иван Грозный. иную территорию ( украина , Клобуково , во- Послание польскому королю Стефану Баторию, лость , Полоцкъ , Заволочье , селище , пустошь ), 1581). Таблица 7. Сочетаемость глагола имати в русской письменности XV в. Table 7. Collocation of the verb imati in the 15th-century Russian writing |
|
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
сребро , подводы , осетръ , костки , брашно , хлѣбъ , соль , медъ , пиво , брага , якори , ужи , пря ‘паруса’, дрова , вода , мощи , оружие |
|
Названия мер |
9 литръ, куны, виры, пять коробеи ( ржи, овса и т. д.) |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
дань , выходъ , убытки , мытъ , тамга , ямъ , погонъ , пересудъ , пошлины , оброкъ , вирное , поралье , пеня , окупъ , поборы , гостиное , рыбное , вѣсчее, побережное , явленое , слебное , мѣсячина , десятина , повозъ , накладъ , закладъ , даръ , посулы , празга , площка , вина , полонъ , гостинецъ , кормъ |
|
Названия территорий |
отчина , украина |
|
Названия документов |
ярлыки |
|
Названия лиц и животных |
люди , дѣти боярские , князь , Лука , приставъ , проводникъ , плѣнники , вороны , куры |
|
Названия частей тела |
рука |
|
Названия абстрактных сущностей, состояний, процессов и событий |
вѣра , помочь , любовь , докончание , миръ , душа , словеса , рѣчи |
Таблица 8. Сочетаемость глагола имати в русской письменности XVI в.
Table 8. Collocation of the verb imati in the 16th-century Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
подводы , тафта , простыня , сребро , лубье , часть ( жита ), хлѣбъ, рожь , овесъ , масло , сыръ , яйца , овчина , кровь , двоеколка , книги |
|
Названия мер |
бочка |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
поборы , пошлины , десятина , хоженое , прикладъ , головщина , наймъ , окупъ , оброкъ , дань , ясакъ , выходъ , мытъ , тамга , мзда , деньги , убытки , казна , доходъ , подать , товары , кормъ , запасы , рухлядь , жалованье , животы , статки , руга , посулы , явка , поминки |
|
Названия территории |
Клобуково , Полоцкъ, Заволочье , волость , украина , селище , пустошь |
|
Названия документов |
грамоты , заповѣди , отпись |
|
Названия лиц, народов и животных |
дѣти боярские , сестра , братия , сродники , старецъ , жены , жонки , дѣти , робята , мнихи , приставъ , вожи , стрѣльцы , сторожи , провожальники , проводники , дворники , крестьяне , хрестьянишки , зажигальникъ , люди , казаки , языки , воры , послы , купцы , ругатели , рыба , куря , поярки |
|
Названия частей тела |
рука |
|
Названия абстрактных сущностей, состояний, процессов, событий |
миръ , порука , словеса развращенныя |
Приведем перечень имен существительных, субстантивированных прилагательных и количественных сочетаний, употребляющихся в позиции прямого дополнения глагола имати в источниках XVII в. (табл. 9).
Как видно из приведенного перечня, сочетаемость имати с XV по XVII в. стабильна. Основные изменения происходят именно в сочетаемости глагола брати , который к XVII в. превращается практически в дублет глагола имати , так что оба глагола начинают конкурировать между собой за роль видовой пары глагола взяти , ср.:
-
(66) взяли де вы подужных денег супроти деревни Рыбинои, брал Гришка Сучка с дуги по две деньги и всех денег взял четыре рубля два гроша (Грамотка приказчика А. Казакова и старост П. Найденова и Е. Калинина из д. Тельчья, 1682.02.06);
-
(67) А воеводы великаго государя с воинством во многих местех будущи остаточных татар всюду побиваху, и живых емлюще к государю присла-ша, и лошадей болши пятидесяти тысящ взяша (А. Лызлов. Скифская история, 1692).
Семантическая эволюция глаголов имати и брати на общевосточнославянском фоне
Если мы сопоставим ситуацию в русской письменности с тем, как эволюционировала пара глаголов имати и брати в староукраинской письменности, то обнаружим, что вытеснение имати глаголом брати на юго-западе восточнославянской зоны произошло гораздо раньше, чем на остальной восточнославянской территории. Об этом свидетельствуют данные Словаря староукраинского языка XIV–XV вв. (СУМ), в котором, как и в СДРЯ, указывается частотность (табл. 10).
Таблица 9. Сочетаемость глагола имати в русской письменности XVII в.
Table 9. Collocation of the verb imati in the 17th-century Russian writing
|
Таксономические классы |
Имена существительные |
|
Материальные предметы или вещества |
сѣно , земля , дрова , зола , хлѣбъ , вино , шерсть , подводы , табакъ , клейноты , сребро , злато , жемчугъ , каменье , перстень , одежды , сѣмена , пепелъ , вода , кость рыбья , соль , щитъ , труба , Святые Тайны |
|
Названия мер |
пять алтынъ , пѣнязь , по 5-ти и по 3 и по 2 рубли (и т. п.), по полполтинѣ |
|
Названия имущества, приобретаемого или отчуждаемого |
запасы , руга , пошлины , поборы , дань , взятки , оброкъ , задатокъ , пеня , тягло ( на себя ) доходъ , деньги , ц^на , кормъ , чужая , пожитки |
|
Названия территории |
дворъ , городы , пустоши |
|
Названия документов |
грамота , запись , память , крѣпости , проѣзжие листы , выпись , накладная , сказки |
|
Названия лиц, народов и животных |
Андрѣй Никифоровъ , ханъ , воеводы , служилые люди , дворовые люди , подьячий , сборщики , цѣловальники , мирские люди , дворяне , дѣти боярскіе , крестьяне , сынишко , сынъ , дщерь , дѣти , братья , сестра , племянники , отрокъ , девица , мужикъ , гулящий челов^къ, гости ( Колыванские ), емлющие ( чужая ), живые , татары , языки , иноземцы, раскольники , знакомцы , птица, змия , скорпия , жаба , черепаха , рыба , лошадь , стада |
|
Названия частей тела |
кишки |
|
Названия абстрактных сущностей, состояний, процессов и событий |
подмога |
Таблица 10. Частотность глаголов имати и бьрати в древнерусской и староукраинской письменности
Table 10. Frequency of the verbs imati and brati in Old Russian and Old Ukrainian writing
|
Глагол |
СДРЯ |
СУМ |
|
бьрати |
18 |
135 |
|
имати ( имаю ) 7 |
31 |
3 |
|
имати ( емлю ) |
325 |
0 |
Как видно из таблицы, в юго-западных восточнославянских диалектах глагол имати в своей исконной парадигме утрачивается достаточно рано. Он сохраняется только в старовеликорусской и старобелорусской письменности (ГСБМ, с. 205).
По-видимому, именно юго-запад был центром распространения новой – аналогической – парадигмы типа имаю , имаеши . Так, имати с новыми формами в независимом употреблении находим в основном в древнерусских памятниках, происхождение которых преимущественно связано с юго-западными территориями 8 :
-
(68) слышю же се. ꙗко сестрѹ имаете дв҃ою. да аще еꙗ не вдасте за мѧ. то створю гра(д) вашему ꙗко и сему створихъ (Повесть временных лет по Ипатьевскому списку, 1110-е);
-
(69) р(ч̑)е же ѡнъ ко мнѣ. дх҃овьнаго ѡц҃а твоєго єже къ б҃ѹ мл҃тва. на се мѣсто приведе тѧ. показати ти ꙗже преже желанїє имаєши (Житие Василия Нового, конец XI в.) 9;
-
(70) а наши по ни(х̑) погнаша. ѡвы сѣкуща. ѡвы имающе . и ꙗша ихъ. руками. полъторы тысѧчѣ а прокъ ихъ изьбиша (Киевская летопись, 1119–1199).
В этих же памятниках глагол имати семантически уподобляется глаголу имѣти , превращаясь в глагол состояния (о глаголе имѣти в восточнославянской письменности см.: [Шевелева, 2019]), а также представлен в качестве вспомогательного глагола в конструкции с инфинитивом, семантически идентичной конструкции с глаголом им^ти :
-
(71) аще того пустиши. не имаеши быти другъ кесареви (Повесть временных лет по Ипатьевскому списку, 1110-е) [ср. (Ин. XIX, 12) Остр. Ев., 184: нѣси дроугъ кесареви; в Лаврентьевском списке: имаши ];
-
(72) в сѹ(б҇)тѹ по взитии сл҃нца. дш҃а моꙗ ѿлѹчитсѧ имаѥть ѡ телесе сего (Симон Владимирский, Поликарп Печерский. Киево-Печерский патерик, первая треть XIII в.).
Выводы
Как показало проведенное исследование, на роль аспектуальной пары глагола възяти претендовали възимати, имати и бьрати. Глагол възимати, исконный имперфектив от възяти, не занял эту позицию, поскольку был редок в письменности и ограничен книж- ными памятниками. Глагол имати постепенно утрачивал итеративность, теряя соотнесение с глаголом яти и в целом ряде значений выступая в качестве видовой пары глагола възяти. Выявлено, что в XV–XVII вв. происходило постепенное расширение семантики, сочетаемости и, как следствие, частотности глагола бьрати, который к XVII в. приобрел свойства, характерные для глагола имати.
Основанием для семантического сближения между бьрати и имати стало, по-видимому, то, что оба этих глагола можно отнести к глаголам контакта с инкорпорированным участником 10 руки , а также связь их семантики с понятиями части, целого и множественности. Различия между бьрати и имати в исходной системе заключались в том, что бьрати помещал в фокус процесс, постепенное накопление, сложение (сбор) некоторого целого из множества частей 11, а у имати в фокусе был результат, обладание некоторой частью, отделяемой от целого.
Возможно, расширение сочетаемости и постепенное вытеснение глаголом брати глагола имати на периферию как минимум было поддержано влиянием языка Юго-Западной Руси, которое, как известно, наиболее значительным было именно в позднесреднерусский период (XVI–XVII вв.). Глагол имати ( емлю ) в староукраинском языке оказался полностью утрачен уже к XIV в., имати ( имаю ) представлял собой глагол состояния, дублет имѣти , тогда как глагол контакта имати ( имаю ) практически вышел из употребления в этот период. По-видимому, данный процесс был связан в староукраинском с взаимодействием глаголов имати и имѣти , поэтому здесь нишу глагола контакта имати очень рано занял глагол брати .
В старовеликорусской письменности долго сохранялась исконная парадигма имати ( емлю ), что препятствовало аттракции между имати и имѣти и надолго удерживало брати от экспансии в исконной семантической зоне глагола имати .
При этом необходимо отметить, что ситуация в языке XVII в. была еще не вполне аналогична современной, поскольку имати в это время оставался более частотным и служил основной видовой парой глагола възяти . Изменение соотношения в пользу брати отмечается только в XVIII в., именно в этот
период происходит маргинализация глаголов имати и яти, а брати и възяти окончательно формируют видовую пару.
Список литературы Глаголы имати и бьрати: дистрибуция и конкуренция в истории русского языка
- Добромыслова А. Н., 1968. Глагол брать в русском языке // Русская историческая лексикология / под ред. С. Г. Бархударова. М.: Наука. С. 221–228.
- Зализняк Анна А., 2006. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Яз. слав. культур. 672 с.
- Падучева Е. В., 2004. Динамические модели в семантике лексики. М.: Яз. слав. культуры. 608 с.
- Пентковская Т. В., Щеголева Л.И., Иванов С.А., 2018. Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Т. 1. Исследования. Тексты. М.: Изд. дом ЯСК. 784 с.
- Пенькова Я. А. Имамь, имѣю, имаю, иму: конструкции с глаголами с корнем им-//ем- в восточнославянской деловой письменности XV в. // Slověne. (В печати).
- Пятаева Н. В., 1997. Опыт динамического описания синонимичных этимологических гнезд *em и *ber в истории русского языка // Этимология 1994–1996 / под ред. О. Н. Трубачева. М.: Наука. С. 140–147.
- Пятаева Н. В., 2007. Генетическая парадигма «Давать // дать → брать → взять → иметь → нести → давать» в истории русского языка: дис.... д-ра филол. наук. Уфа. 643 с.
- Пятаева Н. В., 2009. Генетическая парадигма «Давать // дать → брать → взять → иметь → нести → давать» в истории русского языка: монография: в 2 ч. Стерлитамак: Стерлитамакс. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой. 320 с.
- Шевелева М. Н., 2016. К истории грамматической семантики форм типа хаживал, бивал, бирал // Русский язык в научном освещении. № 2 (32). С. 71–90.
- Шевелева М. Н., 2019. О древнерусском глаголе имѣти, посессивных конструкциях и сложном будущем с имамь / имоу в ранних восточнославянских текстах // Вопросы языкознания. № 6. С. 32–50. DOI: 10.31857/S0373658X0007545-8
- Шевелева М. Н., 2021. О глаголе ꙗти и конструкциях иму + инфинитив по данным древнерусских памятников // Слова, конструкции и тексты в истории русской письменности: сб. ст. к 70-летию акад. А.М. Молдована / под ред. А. А. Пичхадзе [и др.]. М. ; СПб.: Нестор-История. С. 31–50.