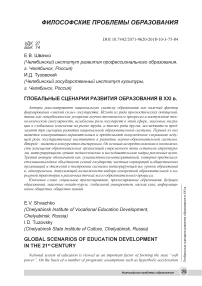Глобальные сценарии развития образования в XXI в
Автор: Швачко Елена Викторовна, Тузовский Иван Дмитриевич
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Философские проблемы образования
Статья в выпуске: 3 (41) т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Авторы рассматривают национальную систему образования как важный фактор формирования «мягкой силы» государства. Исходя из ряда прогностических допущений, таких как гиперболическое ускорение научно-технического прогресса и наступление технологической сингулярности, ослабление роли государств в этой сфере, массовые миграции и глобальные изменения на рынке труда, а также ряда других, исследователи предлагают три сценария развития национальной образовательной системы. Первый из них является консервативно-охранительным и предполагает вынужденное сохранение ведущей роли государственных институтов в развитии научно-образовательной системы. Второй - является конкурентно-дисперсным. Он основан на предположении о возможности замещения образовательных организаций современного типа сетевыми структура-ми, интегрирующими лучшие педагогические и исследовательские кадры различных вузов. Третий авторы обозначают как гуманистически-интегративный, который предполагает взаимовыгодное объединение усилий государств, частных корпораций и общественных организаций и движений в построении системы интегрирующей все уровни образования и, одновременно, допускающей возможности выбора конкретной образовательной и карьерной траектории в различных точках всего образовательного процесса.
Социальное прогнозирование, прогнозирование образования, будущее образования, массовые онлайн-курсы, глобальный университет, мягкая сила, информационное общество, общество знаний
Короткий адрес: https://sciup.org/142228943
IDR: 142228943 | УДК: 37 | DOI: 10.7442/2071-9620-2018-10-3-75-84
Текст научной статьи Глобальные сценарии развития образования в XXI в
Е.В. Швачко, И.Д. Тузовский
В 1990 г. американский политолог и один из ведущих экспертов по международным вопросам Дж. Най предложил концепцию «soft power» – «мягкой силы / могущества». Под мягкой силой Най понимал способность государства добиваться желаемых результатов от политических акторов на основе добровольного участия союзников, их симпатий к государству, обладающего этим ресурсом [11; 12]. «Мягкая сила» первоначально обосновывается Дж. Наем как производное от привлекательности культуры и образа жизни, декларируемых политических ценностей и реализуемой внешней политики, предметно доказывающей состоятельность первых двух пунктов [10]. Хотя эта концепция, конечно же, подверглась критике со стороны различных групп академических исследователей и политиков-практиков (а сам Дж. Най в разное время также занимал высокие посты в американской государственной системе), сегодня сложно отрицать, насколько глубокое влияние оказали обозначенные выше факторы на процессы демонтажа Организации Варшавского договора или распад Советского союза, процессы увеличения геополитической мощи Северо-Атлантического альянса или расширения Европейского сообщества и затем Евросоюза в период 19572015 гг. [1, с. 54].
К текущему моменту концепт «мягкой силы» является не только общепри- знанным, но и активно разрабатывается представителями самых различных дисциплин. Его содержание значительно расширилось и одним из значимых факторов формирования soft power сегодня безоговорочно признается уровень развития образования, рейтинг ведущих университетов, признание дипломов национального образца и востребованность подготовленных национальной системой образования специалистов на международном рынке труда [3; 4; 5; 13].
Российская Федерация оказалась в сложной и противоречивой международной ситуации. С одной стороны, активная защита того, что понимается под нашими национальными интересами, приводит к жесткому противодействию со стороны западного мира. С другой стороны, РФ стремится к построению новой, видимой справедливой архитектуры системы международных отношений, участвует в позитивных процессах – денуклеаризации Корейского полуострова, выводе химического оружия из Сирии, миротворческой деятельности, международной помощи в ситуациях природных, техногенных и гуманитарных катастроф.
В полной мере развить потенциал «мягкой силы» Российской Федерации невозможно только политическими усилиями или престижными презентационными мероприятиями – проведением Зимней Олимпиады или Мирового первенства по футболу. Это также требует и увеличения престижа российской науки, вхождения РФ в число ведущих государств, привлекательных для получения образования с целью успешности на мировом рынке труда.
В свою очередь это требует понимания того, как сегодня в глобальном измерении развивается система образования и науки, какие феномены и тенденции окажутся решающими в ближайшей и среднесрочной перспективе.
По обозначенным причинам авторы решили предпринять попытку футурологического прогнозирования глобальных тенденций развития сферы образования на основе применения метода сценариев. В области общественных и гуманитарных наук научное прогнозирование в целом методологически затрудненно, и по целому ряду направлений, таких как развитие культуры, развитие системы образования и т.д. опубликованы считанные единицы методологически обоснованных статей [6; 7]. Мировые сценарии развития образования основываются, естественно, на нескольких допущениях, связанных с анализом современного состояния мир-системы.
Во-первых, человечество имеет дело с гиперболическим ускорением научно-технического прогресса, который, возможно, приводит к радикальному разрыву со всей предшествующей историей биологического вида Homo Sapiens Sapiens – к технологической сингулярности, наступление которой ожидается уже к середине XXI в., то есть в течение ближайших 2-4 десятилетий. Задолго до наступления сингулярности человек столкнется с необходимостью обновления своего социального опыта и технических навыков взаимодействия с антропогенной средой раз в несколько лет (на самом деле мы уже наблюдаем симптомы этого). Это означает, что пропагандируемая концепция lifelong learning (непрерывного образования или «образования через всю жизнь») становится жизненно-важной необходимостью и должна включить не только профессиональные компонен- ты, но и элементарные бытовые. Вряд ли можно представить, что поколение, находящееся сегодня на пороге пенсионного возраста, с легкостью адаптируется к изменениям, провоцируемым, например, интернетом вещей, виртуальной реальностью или повсеместным внедрением слабых искусственных интеллектов.
Во-вторых, повсюду в мире ослабевает роль национальных государств или под ударом оказывается их природа именно в качестве национальных государств – в первую очередь, в силу массовых миграций. Международные союзы самого различного толка приобретают все большее влияние и значение, а их число и конфигурация отношений не имеют аналогов в истории. Кроме этого, ослабевает и роль государств в сфере научно-технического прогресса: биотехнологии, компьютерные и телекоммуникационные индустрии, нанотехнологии и новые материалы, в конце концов, даже освоение космоса – все это сегодня все больше и больше становится делом частных корпораций. В перспективе свою монополию государства сохранят только на ядерные технологии. Но даже и это под вопросом, поскольку в 2012 г., например, было обнаружено, что компания Kodak более 30 лет - с 1974 по 2007 эксплуатировала в г. Рочестер (США) собственный маломощный ядерный реактор для осуществления научных исследований, обеспечивавших ей технологические конкурентные преимущества перед конкурентами [10]. Все это делает уже не государство главным заказчиком образовательного рынка и потребителем его конечных продуктов - знаний и высококвалифицированных специалистов.
В-третьих, массовые миграции по линиям «Восток → Запад» и «Юг → Север» сами по себе являются социально-экономическим, демографическим, политическим фактором огромной важности, который влияет на развитие системы образования и рынка образовательных услуг. Миграции влияют и на структуру востребованных в обществе профессий
Глобальные сценарии развития образования в XXI в.
Е.В. Швачко, И.Д. Тузовский
(специалисты, чья деятельность связана с различными аспектами межкультурных коммуникаций), и на характер и содержание образовательных программ, которые должны теперь включать эффективный лингвокультурный адаптационный компонент, средства преодоления глобального образовательного разрыва между преуспевающим Севером и нищим Югом.
В-четвертых, нарастание глобальной политической напряженности между ведущими мировыми державами и а сси-метричная война между государствами и международными террористическими организациями создает запросы на определенные интеллектуальные и профессиональные навыки, виды кадров и даже типов личности.
К потенциальным факторам, которые могут подействовать на систему образования в ближайшие годы, но пока еще не проявились достаточно явно, относятся:
-
1. Рост числа масштабных технологических проектов международного сотрудничества – создание международной лунной станции, освоение Марса и т.д.
-
2. Технологии трансформации Homo Sapiens Sapiens в постчеловека, к числу которых футурологи относят, например, загрузку сознания, человеко-машинный нейроинтерфейс, киборгизацию, генетическую модификацию человека. Сложно представить классно-урочную систему образования в мире, где каждый человек может получить доступ к любой открытой базе данных Интернета… со скоростью, близкой к скорости света – без потребности читать и понимать , как это происходит при использовании современных ИКТ.
-
3. Радикальное продление жизни вплоть до достижения практического бессмертия (цифрового или биологического). С одной стороны, это позволит человечеству
-
4. Создание полноценного или так называемого сильного искусственного интеллекта. Сам по себе это мощнейший фактор, который, вероятно, и определит контуры будущего и с которым, в первую очередь, связывается возможное наступление Технологической сингулярности. Но даже если оставить в стороне обоснованные опасения Илона Маска или Стивена Хокинга [8; 9], остается вопрос, чем сможет и чем станет заниматься человечество, освобожденное от обязанности решения интеллектуальных задач.
бесконечно аккумулировать интеллектуальный потенциал наиболее выдающихся умов планеты. С другой – создает и небывалые возможности для формирования геронтократии худшего толка, где любые возможности для молодых специалистов просто закрыты.
Основываясь на этих допущениях и предположениях, авторы прослеживают три сценария развития глобальной системы образования: государственный консервативно-охранительный, конкурентно-дисперсный, интегрировано-гу-манистический.
Сценарий 1. Консервативно-охранительный. Этот сценарий основан на допущении, что государства будут использовать все доступные им ресурсы и влияние для сохранения про-государственной модели образования. Поскольку начальное и среднее образование, как правило, обеспечивается за счет бюджетных средств, то государствам кажется логичным сохранять за собой и сферу профессионального образования, по крайней мере – исключительное право на присвоение профессиональной квалификации или лицензирование образовательных учреждений, которым разрешено такое присвоение. Это, в свою очередь, ведет к довольно высокой степени государственного контроля над содержанием образовательных программ и самому набору специальностей в высших учебных заведениях. К сожалению, следование подобной модели представляется негативным сценарием - рынок труда в силу обозначенных в первой половине статьи трендов стал слишком динамичным, чтобы неповоротливый государственный аппарат мог успевать за ним. По множеству востребованных специальностей: web-дизайн, геймдизайн, 3D-моделирование, специалист по крауд-проектной деятельности и т.д. подготовка не ведется вовсе или ведется в считанных единицах учебных заведений. Да и присвоение квалификации в мире, где инновации стали объективной социальной и экономической потребностью и внедрение инноваций – залог конкурентоспособности и национальной безопасности государства на международной арене, выглядит откровенным атавизмом. Технологические решения меняются слишком быстро. Упусти всего один поворот – и ты уже не квалифицированный специалист.
Наконец, заключительная проблема инерционной реализации данного сценария состоит в том, что условия глобализации и формирования глобального рынка труда в условиях доступности информации в Цифровую эпоху принципиально меняют правила конкурентоспособности учебного заведения.
Профессорско-преподавательский штат идеального университета должен состоять исключительно из людей, каждый из которых является ученым с мировым именем по преподаваемой им дисциплине (может быть, нескольким, но не более) или специалистом-практиком, обладающим столь же серьезным и широким признанием. Это уже не «доля ППС, работающих по специальности», это даже не «доля ППС, защитивших диссертации по проблематике преподаваемых курсов». Это, скорее, «доля ППС, входящих в мировой топ цитируемости по проблематике курса». Реализация этого возможна только в случае аккумулирования лучших ученых-педагогов в рамках сверхкрупных университетов, но это, в свою очередь, ведет к увеличению издержек как на зарплату педагогам столь высокого уровня, так и на обеспечение их научно-исследовательской деятельности, а также обеспечение административно-управленческого аппарата столь крупной организации. Частично эти издержки могут быть компенсированы за счет системы грантов, в которой участвуют крупные и заинтересованные в интеллектуальном и кадровом продукте университета корпорации. Однако это означает, что государство будет оплачивать счета университета в действительности, не связанные с образовательными услугами и научно-исследовательской деятельностью, и лучшие специалисты будут уходить в частную сферу. В то же время для частного грантодателя это будет означать, что часть его финансовой поддержки также пойдет на решение вопросов административно-управленческого обеспечения и пр., то есть будет израсходована неэффективно или, по меньшей мере, нецелевым образом.
В таком случае «естественный отбор» приведет к планомерному снижению государственной поддержки малых учебных заведений и формированию своеобразной олигополии на рынке образовательных услуг, что мы в действительности и наблюдаем, например, в современной России. Но уменьшение числа вузов, особенно ликвидация малых вузов, это неконструктивное решение проблемы – снизится конкуренция между образовательными учреждениями, снизится гибкость и сегментированность образовательных программ.
Следующие этому сценарию государства, скорее всего, с течением времени обнаружат свое глобальное отставание.
Сценарий 2. Конкурентно-дисперсный. В данном случае предполагается, что государство сохраняет за собой начальное и среднее образование и определенный пул высших учебных заведений, в том числе поддерживает и сохраняет малые и узко-профильные. Однако отказывается от политики жесткого опре-
Глобальные сценарии развития образования в XXI в.
Е.В. Швачко, И.Д. Тузовский
деления образовательных стандартов, набора специальностей и содержания образовательных программ, предоставляя широкие свободы негосударственным организациям. Важны не частные вузы, как можно было бы подумать, исходя из начала данного пункта. Важно возможное решение проблемы болезней гигантизма высокорейтинговых университетов. В Цифровую эпоху для аккумуляции высочайшего интеллектуального и педагогического потенциала нет необходимости трудоустраивать всех ведущих специалистов в одной организации, которая неизбежно превратится по описанным выше обстоятельствам в бюджетную «черную дыру». Гораздо более перспективным путем представляется создание образовательных пространств, где ведущие специалисты могут интегрировать свои усилия по обучению новых кадров и эффективно монетизировать собственные знания и педагогические умения. Отчасти данную проблему решают так называемые массовые онлайн-курсы, несколько крупнейших площадок, которые, в первую очередь – Coursera.org, уже заслужили определенное признание. Но заметим, что лишь отчасти, поскольку построение курсов на этой платформе ведется по-прежнему в рамках организационных моделей ведущих вузов, а не интеграции ведущих специалистов безотносительно их организационного трудоустройства. Фактически, официально не признаваемый статус специальностей и дисциплин Coursera.org обеспечивает непредставимую для российского (и отнюдь не только российского) образования гибкость профилей и направлений, содержания образовательных программ.
Итак, площадки массовых онлайн-курсов пока что являются лучшим, но не полным решением проблемы аккумуляции в рамках образовательной программы лучших педагогических кадров. Они служат дополнительной рекламной площадкой вузов, возможно источником заработка, площадкой апробирования новых курсов и специальностей, но работают по-прежнему в рамках государственной организационной модели «ядерных» вузов, занимающихся привлечением и обеспечением работы насколько возможно лучших ученых и преподавателей.
Будущее этой модели видится за полной организационной дисперсией, когда цифровое образовательное пространство предоставляет возможность межорганизационного сотрудничества ученых и педагогов. Эта модель, к сожалению, обеспечивает только потребности в теоретическом образовании; приобретение многих практических навыков, в том числе научно-исследовательских, по-прежнему возможно только на базах практик или в рамках лабораторий «классических» учебных заведений. Теоретически и эта проблема решаема способом моделирования открытых пространств, ведь сегодня существуют не только офисные и креативные open- и work- space, но и производственные. Но насколько государство или частные корпорации будут заинтересованы в предоставлении еще неквалифицированному человеку дорогостоящего оборудования для научных экспериментов или прохождения производственной практики, требующихся для полноты и завершенности образовательной подготовки, если не будут иметь исключительного права или значительных преференций в присвоении квалификации?
Именно поэтому данный сценарий был назван конкурентно-дисперсным. Он наиболее вероятен и основывается на том, что государства сохраняют вузы как организационную форму, сохраняют высокую степень контроля над образовательными программами, но одновременно признают статус образования, получаемого в цифровых образовательных пространствах дисперсного типа, прообразом (и уже довольно эффективным) которых является Coursera.org и иные площадки массовых онлайн-курсов.
Однако этот сценарий оставляет за кадром еще одну проблему функционирова- ния и развития системы образования. До сих пор мы говорили фактически в первую очередь о проблемах функционирования системы высшего и/или профессионального образования, в том числе последующего выхода специалиста на глобальный рынок труда. Однако в современном мире все четче очерченными становятся проблемы вхождения в эту систему и теряющаяся связь с предшествующими этапами образования. Принцип «забудьте все, о чем вам говорили в школе → забудьте все, о чем вам говорили в вузе» наносит ущерб не только престижу высшего образования, но на самом деле девальвирует ценность всякого образования. Какой смысл учиться, если на каждой следующей ступени тебе придется начинать заново?
Сценарий 3. Интегрировано-гумани-стический
Обозначенная ранее динамика технологических инноваций, изменения условий на рынке труда, конфигурации востребованности профессий девальвируют даже не итоги полученного образования, а сам его выбор. Все чаще педагоги сталкиваются с ситуацией фактического отказа студентов от учебы с интересом и энтузиазмом, мотивированного ошибочностью выбора. Различные обстоятельства, перечисленные в первой половине данного исследования, повышают возрастную границу осознанного выбора профессиональной траектории.
Это ведет и к дегуманизации образования, профессиональным деформациям педагогов, для которых студенты становятся образовательным материалом, длительность общения с которым составляет от полугода до четырех лет (и гораздо реже, в случае выбора магистратуры и аспирантуры по той же специальности, – уже 6-7 лет).
Преодолеть, а не перепрыгнуть разрыв между школой и профессиональным учебным заведением возможно только при помощи, с одной стороны, целого ряда мер образовательной политики, а именно: более плотной интеграции среднего и высшего образования на орга- низационном уровне. Наиболее распространенна модель школ-«инкубаторов», подобных физико-математической школе им. М.А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете или Детской школы искусств при Челябинском государственном институте культуры. Однако она формирует закрытую вертикаль: выпускник школы получает преференции при поступлении в материнский вуз, но он ограничен в выборе не после прихода в систему высшего образования, а еще до поступления туда. Если уж мы говорим о высокой частотности понимания ошибочности выбора среди студентов, то что говорить о школьниках, за которых, как правило, выбор делают их родители? Сетевая модель, когда образовательный процесс X школ перекрестно обеспечивается Y колледжей и вузов, представляется более целесообразной.
Возможно, более эффективным будет и воронкообразная структура выбора специальности. В интегрированной в сетевую модель школе выпускник делает выбор в пользу естественнонаучного, технического, общественного или гуманитарного направлений, приобретает входные навыки, в течение первых 1,5-2 лет получает общеобразовательные знания высшей школы и начальные профессиональные знания по нескольким направлениям подготовки, а затем, сделав осведомленный и, следовательно, уже осознанный выбор, получает оставшиеся 2-2,5 года обучения по программе бакалавриата уже узко-профильные профессиональные знания. Альтернативу этой модели представляет вариант предоставления gap year – года после окончания школы, в течение которого абитуриент путешествует, занимается профессиональной волонтерской деятельностью и фактически апробирует для себя разные выборы направления высшего профессионального образования. Примечательно, что вопрос о государственной поддержке практики gap year был поднят в 2018 г. уже и в России [2].
Глобальные сценарии развития образования в XXI в.
Е.В. Швачко, И.Д. Тузовский
Конечно, как и у всякой модели, у варианта гуманистической интеграции образовательных уровней существуют потенциальные проблемы (но их прогнозирование и поиски потенциальных путей решения – задача уже отдельного исследования).
Каждый из трех представленных сценариев обладает преимуществами и недостатками, возникает в силу осознания и поиска решения различных видов проблем. Однако представляется, что оптимальный реалистичный путь развития системы образования для ответа на потенциальные вызовы первой половины XXI в. лежит в некотором синтезе конкурентно-дисперсного и интегрировано-гуманистического сценариев.
Олигополизация рынка образовательных услуг и гигантизм поддерживаемых государством вузов, рост финансовых и иных издержек на содержание либо неповоротливых «динозавров» образовательного рынка, либо на сохранение адаптационных резервов в виде малых профильных вузов, разрыв между средним и высшим образованием, отчуждение образовательного субъекта от возможности осведомленного и осознанного выбора – это реалии сегодняшнего дня. Несколько идеалистические контуры будущего образования, сформулированные авторами в двух последних сценариях, возможно, могут сформироваться спонтанно. Важно не поспешное реагирование на них, которое, в конечном счете, превращается в «затыкание дыр» на тонущем судне российского образования сегодня, а превентивное переживание будущего, полезное для упреждения рисков и угроз завтрашнего дня и перспективного и проективного видения завтрашнего дня.
Список литературы Глобальные сценарии развития образования в XXI в
- Борох О., Ломанов А. От «мягкой силы» к «культурному могуществу» // Россия в глобальной политике. - 2012. - Т. 10. - № 4. С. 54-67.
- В ГД предложили дать выпускникам школ год, чтобы определиться с профессией [Электронный ресурс] // МИА «Россия сегодня». - Режим доступа: https://ria.ru/ society/20180919/1528868267.html.
- Звягина Д.А. «Мягкая сила»: структурный анализ // Инициативы XXI в. - 2012. - № 3. С. 135-137.
- Леонова О. Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке // Обозреватель - Observer. - 2015. - № 2. С. 80-89.
- Ломакина И.С. Становление и развитие общего образовательного пространства Европейского союза: дис.. д-ра пед. наук. - СПб, 2016. - 452 с.