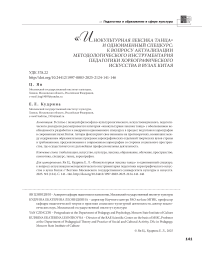«Инокультурная лексика танца» и одноименный спецкурс: к вопросу актуализации методологического инструментария педагогики хореографического искусства в вузах Китая
Автор: Ян Ц., Кудрина Е.Л.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Педагогика и образование в сфере культуры
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций философско-культурологического, искусствоведческого, педагогического дискурсов рассматривается категория «инокультурная лексика танца» с обоснованием необходимости разработки и внедрения одноименного спецкурса в процесс подготовки хореографов в современных вузах Китая. Авторы фокусируют свое внимание на противоречиях, возникших между содержанием образовательных программ хореографических отделений творческих вузов страны и требованиями, предъявляемыми к современным хореографам со стороны социального пространства, где осуществляется их дальнейшая профессиональная деятельность.
Глобализация, искусство, культура, лексика, образование, обучение, пространство, семиотика, спецкурс, танец, хореография
Короткий адрес: https://sciup.org/144163449
IDR: 144163449 | УДК: 378.22 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-141-146
Текст научной статьи «Инокультурная лексика танца» и одноименный спецкурс: к вопросу актуализации методологического инструментария педагогики хореографического искусства в вузах Китая
ЯН ЦЗИНЦЗИН – Аспирант кафедры педагогики и психологии, Московский государственный институт культуры КУДРИНА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА – директор Научного центра РАО на базе МГИК, профессор кафедры педагогической теории и практики социально-культурной деятельности, доктор педагогических наук, Московский государственный институт культуры
YAN CZINCZIN – Postgraduate at the Department of Pedagogy and Psychology, Moscow State Institute of Culture KUDRINA EKATERINA LEONIDOVNA – Director of the RAE Scientific Center on the basis of MSIC, Professor at the Department of Pedagogical Theory and Practice of Social and Cultural Activity, DSc in Pedagogy, Moscow State Institute of Culture
«FOREIGN CULTURAL VOCABULARY OF DANCE»
AND A SPECIAL COURSE OF THE SAME NAME:
ON THE ISSUE OF UPDATING METHODOLOGICAL TOOLS
PEDAGOGY OF CHOREOGRAPHY ARTS IN CHINESE UNIVERSITIES
Jingjing Yan
Moscow State Institute of Culture
Ekaterina L. Kudrina
Moscow State Institute of Culture
Первая четверть XXI века не принесла мировому сообществу ни стабильности, ни мира, ни разрешения религиозных, идеологических, культурных, экономических и каких-либо других противоречий. Напротив, мы с уверенностью можем констатировать, что уровень напряженности только возрастает. Такие факторы, как глобальное потепление, локальные военные конфликты, санкционные претензии, повсеместное внедрение искусственного интеллекта на фоне постоянно увеличивающейся численности населения планеты, уже привели нас к утрате обозримой перспективы безопасного и прогнозируемого развития.
Однако – при всей драматичности и пугающей тревожности, характеризующей текущий этап эволюционного развития, где человечество с легкостью ставит под угрозу сохранение хрупкого мира, – мы можем констатировать и позитивные тенденции, которые, в числе прочего, связаны с последствиями глобализации. Именно этому закономерному процессу мы обязаны закреплением в современном гуманитарном знании различных тезисов о постмодернистской действительности с ее поли- и мультикуль-турными пространствами, требующими специальных подходов к повышению качества межкультурного взаимодействия. Очевидно, что в данных условиях актуальность и ценность вопросов, связанных с осмыслением роли культуры и искусства в инициативах, направленных на сохранение мира, а также на повышение социальной адаптивности населения, становятся значительно выше, чем это было во времена или периоды относительной стабильности.
Сегодня выпускнику вуза, специалисту в области культуры – будь то художник, му- зыкант или хореограф, – для полноценной интеграции в современное социальное пространство, а также для успешного профессионального развития, необходимо соответствовать множеству требований, предъявляемых ко всем «игрокам», имеющим цель реализоваться в профессии. Одним из важнейших требований является понимание и способность к различению многочисленных культурных кодов, определяющих широту взглядов творческой личности студента, его потенциал и возможности. Это знание открывает перед будущим специалистом обозримую перспективу формирования базиса, достаточного как для создания и репрезентации результатов своей деятельности на высоком уровне, так и для качественной реализации коммуникативно-интегративных процессов.
Как известно, любое искусство, как вид художественно-творческой деятельности, кроме преобразования действительности, удовлетворения эстетических потребностей социума, имеет и иные, возможно, более значимые функции, а именно: аксиологическую, обеспечивающую возможность сохранения и отражения базовых ценностей общества, и гносеологическую, отвечающую за познавательные процессы в отношении не только Другого, но и себя самого.
Кроме того, искусство способно формировать некую реальность, пространство или целый комплекс включенных пространств, среди которых: пространство идеи, пространство смысла, пространство иной культуры и другие. Полноценный анализ этих процессов невозможен без обращения к теории знаковых систем – к семиотике, рассматривающей культуру как семантический универсум. Этому вопросу посвящено внушительное количество исследований, не только культурологов и филологов-структуралистов уровня Ю. М. Лотмана, но и представителей частнонаучных направлений. Например, американский философ С. К. Лангер, исследовавшая влияние культуры на ментальные процессы, связанные с ее осмыслением, проводила глубочайший анализ на стыке семантики, фи- лософии музыки и эстетики, в результате чего ею были выделены дискурсивные и репрезентативные символы, обуславливающие формирование того или иного смыслового пространства [9].
В последние годы в исследованиях современных ученых присутствует наличие интереса к разработке категории «инокультурное пространство» [5; 2]. Данный контекст осмысления категории «пространство» влечет за собой целый ряд смежных и производных понятий, среди которых наиболее значимыми (в рамках настоящего исследования) являются «инокультурное пространство» и «инокультурная лексика», посредством которой осуществляется его формирование. «Инокультурное пространство может быть сформировано средствами различных видов искусства: музыки, театра, живописи, хореографии и т. д. Наряду с общими для всей социально-культурной сферы чертами и характеристиками, инокультурное пространство, сформированное конкретным видом искусства, обладает отличительными характеристиками, определенными для конкретного вида искусства», – подчеркивает И. В. Радченко [7, с. 323].
Обращаясь к современной литературе по теории искусства хореографии, в частности, мы обнаруживаем множество исследований, посвященных не только семантическому анализу танца, семантике и архитектонике хореографии, но также работы, связанные с проблематикой инокультурного пространства, что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивом интересе исследователей к данному аспекту. Так как область наших профессиональных интересов сконцентрирована вокруг педагогики искусства и хореографии, дальнейшее наше исследование будет связано с формированием инокультурного пространства средствами хореографического искусства.
Следует подчеркнуть, что И. В. Радченко, обращаясь к разработке категории «инокультурное пространство» подчеркивает, что «хореографическое искусство обладает исторически сложившейся системой выразительных средств и норм, определяющих его специфические черты и право на самостоятельность в мире искусств и позволяющих рассматривать хореографическое искусство как сложное социокультурное явление, формирующее инокультурное пространство» [7, с. 326]. К сожалению, данная концепция не получила полноценного развития ни в цитируемой, ни в каких-либо других работах, связанных с хореографической педагогикой. В диссертационном исследовании И. В. Радченко, защищенном годом позже публикации приведенной статьи, нами найдена иная формулировка, в которой «модель формирования инокультурного пространства студенческой молодежи средствами хореографического искусства» [6] заменена на «модель формирования этнокультурной компетентности» [8]. Вероятно, в данном случае, поворот от ино-культуры к этнокультуре, скорее всего, был продиктован логикой «входящих» в диссертационное исследование понятий.
То есть «инокультура», как категория, обозначающая инаковость культуры или культуру, отличную от той, носителем которой является субъект, представляется скорее, как интроект этнокультуры, которая, в свою очередь, следуя этимологической логике, представлена традиционной культурой того или иного этноса. Для воспринимающего сознания, сталкивающегося с этой «инаково-стью», основными отличительными и идентифицирующими маркерами становятся: мировоззрение, обычаи, костюмы, сюжеты, музыка и, конечно же, танец как один из ярчайших видов художественно-изобразительного творчества, являющийся выкристаллизованной формой культурно-исторического наследия того или иного народа.
Попытка выстраивания оптики объективного анализа с общефилософских позиций заставляет нас обратиться к постмодернистским максимам. Как верно отмечает Д. И. Ге-маддиев, «определяя сегодняшний день как эпоху мета-, постпост- или постмодерн, мы вынуждены обращаться к работам совре- менных философов. На основе их концеп-ций выявляются основные характеристики культуры: когерентность и панкогерентность, эклектика традиционных форм, небинарность и отрицание косных дихотомических структур» [1]. И здесь, мысля проблему в декон-структивистских категориях Ж. Деррида, провозгласившего «Всё есть текст, вне текста не существует ничего» [3], будет правомерно утверждение, что танец также есть текст. То есть танец, как и любой текст, рожденный иной культурой, может рассматриваться нами как средство трансляции культурных кодов, знаний, информации, как процесс, в результате которого осуществляется не только передача опыта, но и своего рода диалог, одним из позитивных эффектов которого становится сближение, обмен, разрушение отталкивающих стереотипов и ложных представлений, как процесс, не позволяющий капсулировать-ся воспринимающему сознанию в пространстве собственных традиций и культурных норм.
Состав текста обусловливает лексика. Танец, наравне с литературой, музыкой и кино, имеет свою знаковую систему, свою лексику, объективирующую (опредмечивающую) заданные реальности, пространства и смыслы. Исходя из этого правомерно введение в научный оборот категории «инокультурная лексика танца», под которой в рамках настоящего исследования нами понимается следующее: инокультурная лексика танца – это совокупность канонических движений и форм их презентации, отражающих традиционные аксиологические и эстетические ценности иной культуры, познаваемой хореографом через танец.
Возвращаясь к тезисам о межкультурном взаимодействии и образовании, мы должны признать, что выпускник, – в данном случае хореограф, – имеющий достаточные представления о семантике иной культуры, имеет больше шансов и инструментов не только для собственной адаптации в ином социокультурном пространстве, но и для того, чтобы развивать свою культуру, адаптируя ее к бо- лее успешному восприятию потенциальным адресатам, с учетом современных реалий. Рассмотрим данный тезис более подробно.
Танец – явление не статичное. Это не архитектура и не живопись. Хореографическое искусство – это процесс, пластическая реализация которого формирует перечисленные выше пространства (идей, смыслов, культуры и так далее) в движении. То есть он не может существовать в косных, закрепленных веками ранее, формах. Ведь аутентичность танца, равно как и аутентичность в музыке, является лишь основой. Её цель – сохранение прототекста (авантекста), который актуализируется следующими поколениями художников-интерпретаторов, через изменение подходов к пониманию формы, не искажающей традицию, но, напротив, сохраняющей и обогащающей ее. Хореограф, как исполнитель, художник, постановщик, балетмейстер или режиссер, имеющий в своем багаже лексику танца иных культур, способен увидеть намного больше в структуре не только иного, но и своего. Сложно представить себе хорошего писателя со скудным читательским опытом или композитора, не переигравшего «всё на свете» за период своего становления. Силу творческого гения определяет не только событийный опыт, не только знания, полученные в ходе образовательной и самообразовательной деятельности, но и то, что постигается им при столкновении с бытием Другого.
В современных университетах Китая давно назрела необходимость пересмотра подходов к обучению хореографов. Как отмечает Ц. Лун, полноценная образовательная практика в её академическом понимании «формируется только к 1954 году, – к моменту основания Пекинской школы танцев» [4]. Однако здесь следует помнить о событиях, связанных с культурной революцией 60–70-х годов прошлого века, событиях, погрузивших страну в хаос, прервавший все культурные процессы, наработанные за этот короткий период.
Обзор литературы по проблеме исследования показал, что сегодня основной фокус внимания в китайском хореографическом образовании направлен на освоение китайского традиционного танца. Этому вопросу посвящено огромное количество программ и дисциплин, целью которых является глубокое ознакомление с историко-культурными детерминантами национального танца. Именно по этой причине молодые люди, имеющие желание расширить географию своей творческой деятельности, вырваться на международную арену или попросту расширить собственные представления о мировом хореографическом искусстве, вынуждены выбирать обучение в зарубежных вузах, что доступно далеко не каждому студенту, ведь данный сценарий влечет за собой высокую финансовую нагрузку. В этой связи возникает необходимость пересмотра подходов к обучению хореографов в творческих вузах Китая. Одним из путей внедрения новых подходов может быть включение в образовательные программы перечня дисциплин, помогающих в решении обозначенных проблем.
С нашей точки зрения, решению данной проблемы может способствовать разработка и внедрение в образовательный процесс обучающихся хореографов спецкурса «Инокультурная лексика танца», включающего аудиторные практические и семинарские занятия, на которых студенты могли бы сформировать достаточные навыки и представления о хореографической лексике ключевых мировых культур, оказавших влияние на современную хореографию во всех её проявлениях. Этот спецкурс может быть полезен студентам бакалаврам, обучающимся по направлениям “теория хореографии”, “исполнительское мастерство”, “педагогика хореографического искусства”, “балетмейстерское искусство” и другим.
Данная мера будет способствовать решению трех основных задач:
-
1. восполнению существующих пробелов в современном китайском хореографическом образовании, характеризующемся перекосом в сторону фиксации на сугубо национальных традициях;
-
2. повышению уровня этнокультурных компетенций будущих специалистов;
-
3. повышению конкурентоспособности выпускников и увеличению количества сценариев их профессиональной и творческой самореализации.
Очевидно, что центральным подходом, способствующим формированию готовности обучающихся хореографов к освоению инокультурной лексики танца, должен стать этнокультурный подход, направленный на формирование достаточных представлений о ключевых особенностях различных мировых культур, нашедших отражение в танце.
Таким образом, на основании изложенного можно констатировать, что разработка и апробация специального курса «Инокультурная лексика танца» на основе этнокультурного подхода актуальна и своевременна для современного хореографического образования в Китае. Данное решение позволит восполнить пробелы, возникшие вследствие перманентно интенсифицирующихся глобализационных процессов, требующих от современного выпускника соответствия всё большему количеству требований, а также – в связи с отсутствием достаточного внимания в данному вопросу со стороны современных педагогов-исследователей.