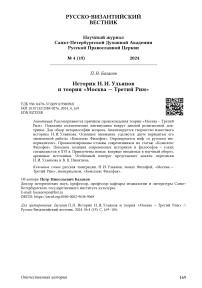Историк Н. И. Ульянов и теория «Москва - третий Рим»
Автор: Базанов П.Н.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются причины происхождения теории «Москва - Третий Рим». Показаны политические инсинуации вокруг данной религиозной доктрины. Дан обзор историософии вопроса. Анализируется творчество известного историка Н. И. Ульянова. Основное внимание уделяется двум вариантам его знаменитой работы «Комплекс Филофея». Опровергается миф «о русском империализме». Проанализированы отзывы современников на статью «Комплекс Филофея». Показана позиция современных историков и философов - узких специалистов в XVI в. Привлечены новые, впервые вводимые в научный оборот, архивные источники. Особенный интерес представляет анализ переписки Н. И. Ульянова и В. П. Никитина.
Русская эмиграция, н. и. ульянов, монах филофей, «москва - третий рим», империализм, «комплекс филофея»
Короткий адрес: https://sciup.org/140308446
IDR: 140308446 | УДК: 930.1(470+571)(091):930(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_169
Текст научной статьи Историк Н. И. Ульянов и теория «Москва - третий Рим»
Православная доктрина «Москва — Третий Рим» традиционно считается имеющей империалистическую сущность. Само название уже последние два века служит одним из главных доказательств «извечного российского империализма». Политической элите нашей страны со времен Киевской Руси приписывается борьба за мировое господство. Особенно пристальное внимание к внешней политики России начинается с момента освобождения от монголо-татарского ига и конкретно с царствования Ивана Грозного. Региональные территориальные приобретения России, возвращение наследия Киевской Руси представляются в западной историографии как борьба за власть над всем миром. Присоединение Смоленска и даже Можайска некорректно приравнивается к завоеванию Америки или Индии1. Якобы концепция «Москва — Третий Рим» была ведущей инструкцией во внешней политике России. На самом деле данная концепция была выдвинута монахом, старцем провинциального Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем (ок. 1465–1542)2. Упоминается данная концепция только в двух источниках, причем в творческом наследии самого старца Филофея занимает весьма скромное место.

Спасо-Елеазаровский монастырь, конец XIX в.
Второе рождение теория «Москва — Третий Рим» пережила во второй половине ХIХ в. В условиях усиления Российской империи, активной внешней политики, целенаправленная стратегия освобождения христианского населения Османской державы увенчивалась планом присоединения Константинополя и Босфорского и Дарданелльского проливов. При этом из доктрины искусственно выбиралось только приравнивание Русского государства к Риму и Византии как мировым империям, но пропускались нюансы и подробности, полностью меняющие ее смысл. И с тех пор, уже более 150 лет, теория «Москва — Третий Рим» трактуется как доказательство тысячелетнего русского империализма.
В ХХ в. еще большую путаницу внес знаменитый русский философ Н. А. Бердяев, писавший: «Инок Филофей был выразителем учения о Москве как Третьем Риме. <…> Доктрина о Москве как Третьем Риме стала идеологическим базисом образования Московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории. Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной, православной веры. Совершенно также и принадлежность к советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры. Под символикой мессианской идеи Москвы — Третьего Рима произошла острая национализация церкви. Религиозное и национальное в Московском царстве так же между собой срослось, как в сознании древнееврейского народа. И так же как юдаизму свойственно было мессианское сознание, оно свойственно было русскому православию»3.
Доказывая неизменность в духовных тенденциях русского народа и национальном характере, Н. А. Бердяев парадоксально и механически приравнивал коммунистический «Третий Интернационал» к доктрине «Москва — Третий Рим». По меткому определению И. А. Ильина, в данных идеологических практиках общее — только слово «третий». Как точно подметила историк Е. А. Бауэр, «Н. А. Бердяев связывает появление теории „Москва — третий Рим“ с особым миропониманием русских, которые всегда считали себя народом избранным. В данной идее хорошо различимы религиозное и государственное начала; при этом официальная часть идеи напрасно выдвигается идеологами на первый план <…>. Н. А. Бердяев был убежден в главенствующей роли этой теории на каждом этапе развития Русского государства вплоть до СССР. Данная позиция позднее будет вызывать негодование со стороны историков-эмигрантов (например, Н. И. Ульянова) и критически оцениваться последующим поколением исследователей (А. Л. Гольдбергом, Н. В. Синицыной)»4.
Для Н. И. Ульянова сравнение Третьего Рима с Третьим Интернационалом было признаком высшей степени не научности и антиисторизма. В своей работе «Петровские реформы» он пишет: «Еще более безответственный вид критики появился в эпоху мистицизма, в конце XIX, в начале XX века, когда сложилась новая гносеология, провозгласившая возможность знания без посредства какого бы то ни было изучения, каких бы то ни было рассуждений и выводов, знания внутреннего, возникающего без помощи внешних чувств. Эта новая теория познания и породила плеяду философов типа Бердяева, Мережковского, Степуна, Карсавина. Изучение истории они заменили ее постижением. В тайны истории мнили проникнуть интуитивно, мистически; глубже, чем посредством знания. Они были первыми, кто додумался до генетической связи „Третьего Рима“ с Третьим Интернационалом (выделено мной. — П. Б. ), Петра Великого с Лениным и Сталиным. От них пошла густая толпа газетных писак, готовых судить и выносить приговоры на любую историческую тему»5.
Следует сравнить это мнение с цитатой из другой работы Н. И. Ульянова «Позорный рецидив»: «С этой новой теорией познания вышла на сцену новая плеяда философов типа Бердяева, Степуна, Ильина, заменивших изучение истории ее постижением. Провозглашен был метод интуитивного, мистического проникновения в сущность вещей и в тайны истории. Додумались до генетической связи
„Третьего Рима“ с Третьим Интернационалом (выделено мной. — П. Б. ) и до духовного родства Петра Великого с Лениным и Сталиным. От их философии повалил густой дым развязных суждений на любую историческую тему»6.
Примерно так же эту идею Н. И. Ульянов формулирует в работе, специально посвященной философии истории: «Надо ли пояснять, что тут слышим голос не академически воспитанных историков, а людей, захваченных политическими страстями и размышлениями. История прельщает их не утолением жажды знания, а желанием получить ответ на волнующую тему. Большую популярность приобрели так называемые „вольные философы“ типа Бердяева, Федотова, Степуна, отказавшиеся от изучения истории и заменившие его интуитивным „постижением“. Так устанавливали они генетическую связь между „Москвой — Третьим Римом“ и „Третьим Интернационалом“, давшую им право объявить Россию извечным носителем идеи коммунизма и мирового господства (выделено мной. — П. Б. ) . „Открытие“ было подхвачено и имело большой успех»7.
Зато неудачная бердяевская фраза

Н. И. Ульянов. 7 ноября 1965 г.
на митинге-концерте в Нью-Йорке в помещении «Вашингтон Ирвинг хай скул», посвященном «Дню непримиримости» (организатор — ассоциация св. Георгия)
стала «священной» в западной советологии
для доказательства извечности советской агрессивной политики. Первыми начали разрабатывать проблему аутентичности русского православия, государственности,
национального характера и политики с коммунистическими реалиями эсеры и меньшевики. Левый фланг русской эмиграции писал в самых лучших традициях революционной пропаганды, обличающей царизм. Именно эсеровско-меньшевистский круг авторов влиятельного на Западе журнала «Социалистической вестник» оказал огромное воздействие на зарубежную советологию. Из советологии спекуляции перешли в современную российскую публицистику и, что печальнее, даже в науку.
Уже при первых публицистических упоминаниях о концепции «Москва — Третий Рим» появились научно-аналитические работы, опровергающие исторические фальсификации и передержки.
Одним из первых и наиболее последовательных критиков русофобской интерпретации теории «Москва — Третий Рим» был Николай Иванович Ульянов (1904– 1985) — знаменитый русской историк, представитель второй «волны» отечественной эмиграции. Последний ученик академика С. Ф. Платонова, он был в молодости узким специалистом по истории России XVI–XVIII вв. В эмигрантский период был вынужден заниматься историей русской мысли и ее влиянием на идеологические и политические концепции ХХ в. и прекрасно знал эмигрантскую публицистику8.
В своей работе, блестяще названной «Комплекс Филофея», Н. И. Ульянов опроверг мифы, связанные с данной доктриной. Эта статья существует в двух вариантах. Первый, малоизвестный, был напечатан в «Новом журнале» за 1956 г., а второй, более цитируемый, — в авторском сборнике «Свиток» за 1972 г. Варианты отличаются в заключительной части. Переработаны были последние страницы, посвященные политическим взглядам эсеров и меньшевиков, — в сторону философского и исторического анализа феномена.
В «Комплексе Филофея» доказывается, что религиозная, чисто православная доктрина о спасении христиан выдается за политический империализм, построение мировой империи.
Сам монах Филофей был «провинциальным» мыслителем псковской земли, одной из самых последних независимых от Москвы. Н. И. Ульянов справедливо отмечал: «Филофей может считаться одним из предтечей раскола XVII в. Ведь дух псковского Елеазарова монастыря был „раскольничий“. Еще основатель его прп. Еф-росин (Елеазар) совершил в 1419 г. паломничество в Царьград с единственной целью — узнать, сколько раз следует петь „аллилуйа“. Вернулся оттуда убежденным сторонником сугубой аллилуйи»9. Причем даже у идеологов раскола — протопопа Аввакума и инока Авраамия — Филофей упоминается не как автор концепции «Москва — Третий Рим», а как борец с католичеством, астрологией и дискуссиями о перстосложении. Отсюда — своеобразие творчества инока Елеазарова монастыря, в условиях ожидания конца света — прошествия семи тысячи лет от сотворения мира.
Для российских политических элит XVI в. были более понятны и популярны основанные на средневековом восприятии мира концепции — генеалогические (о происхождении Рюрика и его династии от брата Августа — Пруса — «Сказание о князьях Владимирских») или религиозные (о чудесной преемственности архиепископа Новгородского от патриарха Константинопольского — «Повесть о белом клобуке»).
Весь империализм в теории «Москва — Третий Рим» появился из интерпретации второй половины XIX в., и его перенос на XVI в. является одной из самых крупных фальсификаций в истории русской мысли. В то же время многих публицистов умиляет идея преемственности русской политики на протяжении 500 лет. Историк Н. И. Ульянов показывает, что коммунистической внешней политике приписывают преемственность и от позднего славянофильства: «В исторических идеях Н. Я. Данилевского, Константина Леонтьева, в поэзии Тютчева таятся, по мнению Б. И. Николаевского, корни советского империализма»10. Он также подчеркивает, что никаких реальных фактов все эти инсинуации не имеют.
Основное внимание Н. И. Ульянов уделяет публицистике экономиста и меньшевика Н. Валентинова (Николай Владиславович Вольский) (1880–1964). Последний под псевдонимом Е. Юрьевский в журнале «Социалистический вестник» (1956. № 1) напечатал статью «От Филофея в наши дни» (была продублирована на французском языке в парижском журнале «Est et Ouest» в феврале 1956 г. под заглавием «Le complexe Byzantin dans la conscience russe», т. е. «Византийский комплекс в русском сознании»).
Главные положения Н. Валентинова (Е. Юрьевского) Н. И. Ульянов сводит к следующим характеризующим статью цитатам: «„в тоталитарной России в царствование Сталина воскрешается Московская Русь XVI–XVII веков со всем ее тягловым укладом“. Из Московской Руси и пришла к нам идея мировой революции — как известного стремления Москвы к мировому господству. Творца этой идеи, в форме учения о третьем Риме, Е. Юрьевский усматривает в старце псковского Елеазарова монастыря Филофее, жившем в конце XV и в первой половине XVI века. Формулой „два Рима пали, третий Рим (Москва) стоит, а четвертому не бывать“ Филофей будто бы создал комплекс идей и чувств, ставших сущностью русской натуры и питавших на протяжении веков русский империализм, а ныне питающий большевистскую экспансию. Подлинное торжество псковского монаха автор видит как раз в наши дни: „Музыка Филофея играет, гремит на весь мир, особенно после Второй мировой войны“»11.
Публицисты из меньшевистского «Социалистического вестника» в силу марксистского мировоззрения не знали простого факта — что в христианстве идея всемирной империи означала не светское, политическое, а религиозное мировоззрение. Они не рассматривали библейское пророчество Даниила о смене всемирных монархий — вавилонской, ассирийской, мидо-персидской и каких-то других, в которых позднейшие толкователи усматривали македонскую и римскую (византийские толкователи Андрей Кесарийский, Козьма Индикоплов и Мефодий Патарский добавляли Византию — второй Рим). Н. И. Ульянов писал: «В основе своей сочинения о всемирном царстве заключают идею не торжества и превосходства, а спасения; они проникнуты страхом Божиим и должны быть отнесены к разряду эсхатологической литературы»12. Ожидание конца света в 1492 г. — году истечения семи тысяч лет от сотворения мира — было плодородной почвой для подобных концепций, но «„музыка Филофея“ меньше всего походила на марш Буденного»13.
В отличие от своих многочисленных оппонентов, Н. И. Ульянов цитирует подлинный текст Филофея по первоисточникам, а не в пересказе: «После того, как нашего старца объявили злым гением русского исторического развития, читателю трудно будет поверить, что все написанное им о третьем Риме умещается в десяти–пятнадцати строках: „Тебе, пресветлейшему и высокостольнейшему государю великому князю, православному христианскому царю и всех владыце, браздодержателю святых Божиих престол святыя вселенския соборныя апостольския церкви Пречистая Богородицы честного и славного Ея Успения, иже вместо Римския и Константинопольския просиявшу. Старого убо Рима церкви падеся неверием аполинариевы ереси, второго Рима Константинова града церкви агаряне внуцы секирами и оскордами рассекоша двери, сия же ныне третьего нового Рима державного твоего царствия святые соборные апостольския церкви, иже в концах вселенныя в православной христианской вере во всей поднебесной паче солнца светися. И да весть твоя держава, благочестивый царю, яко все царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь“»14.
Далее Н. И. Ульянов продолжает: «Вот и все „учение“. В послании к Мисюрю Мунехину оно повторяется с небольшой разницей в выражениях (После слов: „паче солнца светися“ следует: „Да веси, христолюбче, яко вся христианская царства при-идоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя. По пророческим книгам, то есть Росейское царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти“), и ничего больше о третьем Риме от Филофея не сохранилось. Полагают, что и не было. Но где здесь мысль о „мировой гегемонии“, об „экспансии“, где приписанная ему Е. Юрьевским гордыня: „Нас ожидает великое будущее, мы призваны к главенству, наш исторический путь не может и не должен совпадать с европейской судьбой?“ Единственная гордыня Филофея — это праведность православной веры, поставленной у него выше всех других исповеданий. Но можно ли вообще найти религию, не считающую себя единственно правильной и не пророчащей ада и душевной погибели всем инаковерующим? Религиозный мессианизм только тогда одиозен, когда сопровождается проповедью насильственного подавления чужих верований. Этого у Филофея нет, и этим он выгодно отличается от тех же католиков, проповедовавших и практиковавших в XVI веке “Drang nach Osten”. Когда он пишет Василию III: „Вся царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство“, то это означает последнее прибежище православия, а вовсе не всемирную империю» . 15
Современная академическая публикация публицистического наследия монаха Филофея была напечатана в девятом томе «Библиотеки литературы Древней Руси»16.
Концепция «Москва — Третий Рим» была известна в узком круге ученых монахов и книжников. «Только в „утвержденной грамоте“ константинопольского патриарха Иеремии, приехавшего в 1589 г. на Русь и давшего согласие на учреждение патриаршества в Москве, находим почти дословную формулу Филофея»17. Но и это, по мнению Н. И. Ульянова, — доказательство церковной практической цели: возведение московского митрополита в сан патриарха, что полностью соответствовало православным реалиям после падения Константинополя.
Свою позицию Н. И. Ульянов уточняет в письме иранисту и евразийцу Василию Петровичу Никитину (1885–1960)18: «Ваше теперешнее письмо прочел с тем большим удовольствием, что не обнаружил в нем ни одного из тех противоречий с моей статьей, о которых Вы пишете. Что национальное сознание и историческая память народа живет в его немногочисленном интеллигентном меньшинстве, это верно. Но ведь я показал, что идея III Рима не была долго даже в головах этого меньшинства . Около 300 лет никто на Руси о III Риме не говорил. Упомянул же я об „узком круге ученых монахов и книжников“ потому, что мои противники приписывали широкое знакомство и многовековое воспитание в духе идеала III Рима всему народу русскому. Говоря об узком круге интеллигенции, опасно все-таки приписывать ему столь категорично национальное представительство целого народа. В том же XIX веке у нас были разные интеллигенции от группы национальной народности до народников-террористов. Которая из них выражала душу и исторические чаяния народа? Столь же осторожно надо подходить и к вопросу о влиянии интеллигентской верхушки на политику (особенно внешнюю) правительства. Она, эта политика, — слишком сложное явление и определяется слишком большим количеством факторов, чтобы можно было приписывать ее одному лишь воздействию на правительство какой-нибудь идейной группы»19.
Сама теория «Москва — Третий Рим» как заявка на «римское» наследие была не только русским изобретением. В Болгарии в XIV в. Тырново провозглашают «вторым Царьградом»; так же на «римское» имперское наследство претендовал и сербский царь Стефан Душан. Но болгары и сербы ничуть не притязали на всемирную империю, а хотели восстановить патриаршие престолы.
На Западе после коронации Карла I Великого римским императором именно в политическом контексте (с примерным восстановлением границ) Римская империя была провозглашена вечной, а богоизбранным народом и богоизбранными государями были провозглашены монахом Адсо франки и франкские короли. Впрочем, историк Н. И. Ульянов полемически интересуется: «Почему же ни о каком „адсизме“ во Франции не говорят, а вот „филофейство“ у нас обнаружили?»20 Как раз австрийские императоры («Священно-Римской империи») и папы римские весь XV–XVI вв. уговаривали русских государей не забывать о византийском наследстве и императорской короне Второго Рима, только чтобы уменьшить турецкую опасность.
Положения Н. И. Ульянова одобрял В. П. Никитин: «„Комплекс Филофея“ прочел с тем большим интересом, что все, касающегося пресловутого „русского империа-лизма“, никогда меня не оставляло равнодушным. Я знаю о проникновении к нам идеи III Рима через Болгарию (в Тырнове, Новом Царьграде, удивительно живописно расположенном амфитеатром над Янтрой, я побывал 50 лет тому назад), но многие другие сообщаемые Вами подробности мне не были знакомы, — Ваша статья, написанная по всем правилам исторического исследования, наводит меня на размышления, не всегда совпадающие с Вашими взглядами, чем и хочу с Вами поделиться. Так, например, замечал, что „идея Москвы III Рима не выходила за пределы узкого круга ученых монахов и книжников“ (т. е. интеллигентов того времени). Вы заключаете, что она, не будучи разделяема народом, не оказала влияния на нашу внешнюю политику. Мне кажется, однако, что эту политику делает в большинстве случаев не народ, а именно интеллигентное меньшинство, хранящее историческую память и разрабатывающее национальное сознание. Так, в наши дни, планетарная политика кремлевской кучки вряд ли разделяется народом, — его больше интересует ширпотреб, жилплощадь, а в деревне МТС и трудодень, — но тем не менее это она вдохновляет сов. дипломатию и влияет на судьбы России? Народу приходится лишь (до по поры до времени) отвечать за ее последствия, тянуть военную и производственную лямку и вместо масла получать пушки и бомбы. — Я расхожусь также с Вашим мнением, что с „турецкой армией до 1676 г. никаких столкновений не было“. Формально Вы правы, но ведь нельзя упускать из виду, что Крым, вассал Турции с 1475 г., вел постоянную войну с Россией и причинил ей набегами немало бедствий. Невольничий рынок в Кафе наполнялся главным образом русскими полонянниками, „Ясырем“. Только Петр повел более решительную политику, начав с взятия Азова (раньше Москва отказалась принять его от донцов, владевших и им с 1637 по 1641 г.). Совершенно верно, впрочем, что III Рим тут ни при чем, что не помешало позже, как Вы указываете, мотиву III Рима обрасти пышной легендой, „корни которой уходят не в эпоху Василия III, а в идейный и политический климат царствования Александра II“. Тут у меня опять-таки напрашивается мысль, что тут дело не в фактах из первоисточников, для Вас, как историка, обязательных, а во власти „ударных“ слов, не над умами, а над воображением, т. е. начало не рациональное, эмоциональное. Как рождаются эти слова („лозунги“) я слышал на солдатских митингах в Персии в 1917 г., чем объясняется их сила — тема, по-моему, весьма существенная. Те, кто пускает их в оборот и умеет ими пользоваться, ведет за собой толпы»21.
Неожиданно в дискуссии поддержал Н. И. Ульянова знаменитый философ Федор Августович Степун (1884–1965) в статье «Москва — Третий Рим», опубликованной в «Новом журнале» (1960 г.): «Если не ошибаюсь, Бердяев первый, правда, мимоходом, как это он часто делал, бросил мысль, что за большевизмом стоит идея Третьего Рима. Федотов в своей статье „Россия и свобода“ в известном смысле присоединяется к этому мнению. С легкой руки религиозных мыслителей эту тему адаптировали социал-демократы Р. А. Абрамович, С. М. Шварц, Б. И. Николаевский, Е. Юрьевский и использовали ее в интересах защиты дорогого их сердцу марксизма от „азиатского социализма“ большевиков (Каутский). С опровержением этих авторов выступил Н. И. Ульянов. В большой обстоятельной статье он подтвердил известную истину, что учение инока Филофея о Москве как о Третьем Риме не имело ничего общего с националистическим посягательством на завоевание мира, что оно связанное с ожиданием конца мира, было ему внушено заботою о духовном состоянии русского народа и носило скорее эсхатологический, чем империалистический характер»22.
Н. И. Ульянов доказывал, что идея меньшевиков об «азиатском мессианизме» русских заимствована у польского этнографа Францишека (Франциска) Духинского (1816–1893). Именно он придумал псевдонаучную теорию о туранском, неславянском происхождении русских. Белорусы и малоросияне были для него этнографическими группами польского народа, а москали — азиатами. Первоначально идеи Ф. Духин-ского понравились К. Марксу. Правда, последний пришел буквально в ужас, когда узнал, что «Ф. Духинский энергично развивал взгляд на коммунизм как отличительную черту туранской натуры, вовсе не свойственную индоевропейцам. Московский коммунизм он усматривал в пренебрежении к частной собственности, в общинном землевладении, в органической неспособности терпеть какое бы то ни было деление на классы и касты»23. «Как на один из образцов такого пренебрежения, он указывал на реформу Александра II, предоставлявшую освобожденным крестьянам усадебные участки (принадлежащей помещикам земли) без всякого выкупа. Ссылается Духин-ский также на отсутствие у русских прав наследования; даже слова „наследство“ и „на-следование“ отсутствуют, по его мнению, в русском языке»24. Не менее анекдотично выглядит доказательство «кочевой жизни» великороссов — зимой русские помещики переезжали из поместий в города! Уже современники убедительно показали полную ненаучность теорий Ф. Духинского. Уничтожающей критике его работы и гипотезы подвергли еще в XIX в. польский лингвист И. А. Бодуэн де Куртене, историк Н. И. Костомаров, этнограф А. Н. Пынин.
-
Н. И. Ульянов отмечал, что «Духинский давно осужден своими же соотечественниками, забыт и ни в одном ученом сочинении нет ссылок на его анекдотические „труды“, но русофобские теории его, пущенные в широкий оборот, получили самостоятельное бытие, независимое от судьбы их творца. Мы живем в эпоху всемирного их распространения, когда они сделались идейной манной для всех так или иначе занятых проблемой большевизма»25. Зато самая идея киевского шляхтича, что «„ту-ранская Московщина“, всегда была отмечена знаком неволи и коммунизма», быстро стала популярной у либералов и социалистов всех мастей. Н. И. Ульянов, убежденный западник-патриот, доказывал, что меньшевик П. А. Берлин фактически пересказывает расистские взгляды польского русофоба XIX в. Ф. Духинского. В письме В. П. Никитину Н. И. Ульянов уточнял: «Если я ссылался на Духинского, то не в силу своего „запад-ничества“, а лишь для того, чтобы показать нашим меньшевикам (врагам расисткой теории) расистский первоисточник их теперешних взглядов на Россию»26.
Известный историк М. М. Карпович в своих знаменитых комментариях одобрил все положения Ульянова о происхождении Филофеевой теории. В особенности он подчеркивал: «Согласен я с ним и в том, что в дальнейшем идея Третьего Рима была в России основательно забыта — вплоть до эпохи Александра II-гo, когда старец Филофей, был открыт русскими историками, а по их следам — публицистами, поэтами и философами»27. При этом М. М. Карпович подтверждал: к революционным идеям XIX–ХХ вв. концепция старца Филофея не имела никакого отношения. Он также отрицал, оппонируя Н. И. Ульянову, что русофобские идеи Ф. Духинского повлияли на публицистику авторов «Социалистического вестника»28.
В защиту позиции Н. И. Ульянова приведем и его цитату, лучше всего, на наш взгляд, характеризующую перегибы и фальсификации меньшевика П. А. Берлина: «Для воззрений автора [П. А. Берлина] очень характерно это перешагивание через европейский период. Русское самодержавие просуществовало не более 400 лет, и его история делится на две равные половины — двести лет московских и двести петербургских или „европейских“. Но оказывается, что двести „монгольских лет“ перевесили европейские годы, и на условия, породившие большевизм, оказали влияние не петровские преобразования и просветительство екатерининских времен, не реформы 60-х годов, не манифест 17 октября, а чингисхановская Яса. Дело, значит, ясное: монголизм — наша вторая натура. Из всех народов, когда-то покоренных монголами, только нам, русским, пришлось по вкусу степное законодательство, да и так пришлось, что ни Лейбниц и Пуфендорф, ни Монтескье и Дидро, ни Сперанский и Милютин, ни Пушкин и Чаадаев, ни Белинский и Герцен, ни весь расцвет нашей европейской
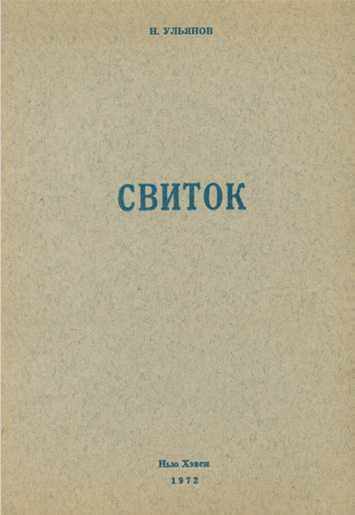
Сборник статей Н. И. Ульянова «Свиток», содержащий работу «Комплекс Филофея», изданный в 1972 г.
культуры, названной Полем Валери одним из трех чудес мировой истории, не смогли его вытравить»29.
Снова процитируем письмо В. П. Никитина к Н. И. Ульянову: «Как истый западник, Вы пользуетесь случаем показать на примере Духинского, насколько вредными для России являются высказывания ее противников и хулителей о нашей „туранской“ природе и нашем „врожденном монголизме“. Если вы припоминаете „наследие Чингис-Хана“, то, может быть, согласитесь со мной, что у Н. С. Трубецкого в идее наследования делается упор не на господство и гегемонию, но на необходимость защиты со стороны Азии, преподанную горьким опытом монгольского ига, т. е. как новый Царьград для болгар знаменовал „средство самозащиты и национального самоутверждения“, причем Трубецкой подводил под наследие „фундамент бытового православия Московской Руси“. Вполне разделяя Ваши весьма удачные замечания о том, что отношения с Москвой XV–XVII вв. Папы и Свящ. Римской Империи — „сплошная цепь искушений и упорных убеждений завладеть Константинополем и сесть на трон Цезарей“ (посольство Антонио Поссевино, 1594 г.), и о всей балканской политике XIX в. вплоть до „Константинополя и проливов“, хочу, однако, напомнить о „туркофильстве“, распространившемся на Западе после взятия Константинополя турками (об этом подробно у А. Е. Кропинского в его „Истории Туретчи-ны“). Что касается Проливов, то этот вопрос лучше всего освещен моим покойным другом Андреем Николаевичем Мандельштамом (см. его La politique russe basseala la Mediterranee an XX s. ed Recueil Serey, 1935). Русский род всего Измаила победит и Се-михолмье возьмет и в нем воцарится (Пахомий, серб, достойный ученик тырновского книжника Ефимия) из грузинской летописи фр. перевод найден Срезневским»30.
Завершает Н. И. Ульянов оба варианта «Комплекса Филофея» анализом воззрений авторов «Социалистического вестника», ищущих причины внешней политики сталинизма не в социалистическом учении, а в русском национальном характере: «Что вкус к такой манне начинают приобретать и русские — не удивляет. Удивляет другое: уверенность в возможности сочетать этот вкус с борьбой за освобождение России. Как можно освобождать от тоталитарного строя народ, в котором сам же освободитель видит прирожденного тоталитариста?»31 Значительно лучше историк охарактеризовал их взгляды во втором варианте «Комплекса Филофея»: «Таким образом, для объяснения извечного русского империализма представители нашей социал-демократии объединили два несовместимых учения — расистское и церковное. На этой почве никакого разногласия между ними не замечено. Очевидно, для очернения русского исторического процесса все теории хороши»32. Афоризм прекрасно применим ко многим западным советологам и современным «либеральным» публицистам.
Интересна реакция русских историков — узких специалистов в XVI в. и читавших подлинные произведения монаха Филофея (письма дьяку М. Г. Мисюрю-Мунехину и великому князю Василию III), а не цитаты и пересказы из статей конца XIX — начала ХХ вв. Общее мнение: Н. И. Ульянов верно выразил известные всем профессиональным историкам факты.
После публикации «Комплекса Филофея» в среде профессиональных историков, знакомых с наследием старца Филофея, доводы Н. И. Ульянова вызвали поддержку, а вот публицисты, в особенности левых убеждений, были неприятно удивлены. В защиту своих воззрений левые использовали традиционный прием — обсуждение не сути вопроса, а личности дискутанта. Как всегда, политика стала побеждать науку.
Уже первая публикация «Комплекса Филофея» породила бурную дискуссию. Профессор Николай Ефремович Андреев (1908–1982) был признанным специалистом в истории России XVI в. Еще в пражский период Н. Е. Андреев стал интересоваться историей эпохи Ивана Грозного, историей псковской земли. В трудах «Института Кондакова» выходят его самые известные довоенные научные работы: «Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства»33, «Инок Зиновий Отенский об иконо-почитании и иконописании»34, «Иван Грозный и иконопись XVI века»35 и др. После Второй мировой войны Н. Е. Андреев переехал в Великобританию и стал работать в Кембриджском университете; в 1973 г. он получил заслуженное назначение экстраординарного профессора славяноведения. Необходимо отметить, что весь англоязычный мир знает русскую историю XVI–XVII веков в интерпретации Н. Е. Андреева. Он являлся автором статей в знаменитой энциклопедии «Британика»: «Иван Грозный», «Ермак Тимофеевич», «Курбский», «Строгановы», «Земский Собор», «Федор I», «Борис Годунов», «Федор II», «Смутное Время», «Василий IV Шуйский».
У социал-демократов из «Социалистического вестника» личность Н. Е. Андреева не вызывала возражений, так как его дядя Николай Николаевич Андреев был видным меньшевиком, а Колю Андреева они знали с детства. С 1957 г. историк состоял в переписке с Н. Валентиновым. Еще до публикации посвященной данной научной проблеме фундаментальной статьи на английском языке «Филофей и его послание Ивану Васильевичу»36 Н. Е. Андреев изложил ее содержание по-русски, чем крайне изумил и озадачил Н. В. Вольского. Из переписки Н. Е. Андреев сделал вывод о тенденциозности авторов «Социалистического вестника», отсутствии у них какой-либо работы над источниками и совершенной публицистичности их доводов. Вместо подлинного текста Филофея Е. Юрьевский (Н. Вольский-Валентинов) использовал цитаты С. Ф. Платонова, А. В. Карташова и советского историка Н. С. Чаева37. Будучи профессиональным историком и узким специалистом именно в псковской истории XVI в., Н. Е. Андреев доказывал, что монаха Филофея более всего интересовала возможность конфискации церковных земель, никакого «апофеоза» Москвы в его посланиях нет. Якобы существовавшая мессианская теория «Москва — Третий Рим» не имеет исторической базы и является публицистической подменой этой идеи авторами ХХ века.
В рецензии на второй вариант «Комплекса Филофея» Н. Е. Андреев повторил свои основные аргументы и раскрыл переписку с Н. В. Вольским. Впрочем, последний, не смотря на факты против его концепций, все равно писал о русском мессианизме и даже находил его у русской эмиграции, подчеркивающей свою уникальную культурную миссию: «…Наша эмиграция переполнена скрытыми и открытыми, сознательными и несознательными мессианистами. Чувства их превосходно выразил милейший Борис Зайцев, заявив: „Для нас, русских, а особенно изгнанников, Достоевский есть хоругвь. Отец и вождь. Без него нет России, нет ее души“. Ужас в том, что этот мессианизм перекликается с мессианизмом, на весь мир кричащим из Москвы. А для меня этот мессианизм — проклятие, это он ныне питает идею мировой революции, и пока Россия не выблюет из себя этот мессианизм — не будет ни ей, ни миру покоя»38.
Причем уже первая статья Н. Е. Андреева «Филофей и его послание к Ивану Васильевичу» получила широкую известность в научном мире. Даже в СССР разрешили опубликовать большой положительный отзыв «К истории создания теории „Москва — третий Рим“»39, автором которого была историк псковской земли, впоследствии доктор исторических наук, профессор Надежда Николаевна Масленникова (1927–2010).
Знаменитый историк Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) очень ценивший творчество Н. И. Ульянова, выделял из его работ «Комплекс Филофея» и цитировал в своей монументальной работе «История России», в четвертом томе «Россия в средние века», в пятом разделе «Рост имперской идеологии»40.
Интересна точка зрения узкого специалиста по теории «Москва — Третий Рим», доктора исторических наук, главного научного сотрудника Центра истории религии и Церкви Института российской истории РАН, члена научно-редакционного совета «Православной энциклопедии», участницы российско-итальянского семинара «От Рима — к Третьему Риму» Нины Васильевны Синицыной (1936–2018). Трудом всей ее жизни была монументальная монография «Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.)»41, удостоенная Ма-кариевской премии первой степени. В этом научном исследовании Н. В. Синицына излагала взгляды Н. И. Ульянова о религиозном, церковном по преимуществу, содержании идеи «Третьего Рима». Так, по ее мнению, зарубежный историк усматривал в ней «чисто практическую цель» — возведение московского митрополита в сан вселенского патриарха. Приведя краткие замечания А. Н. Пыпина, С. М. Соловьева, Е. Е. Голубинского, П. Николаевского, П. Пирлинга, В. О. Ключевского и др., Н. И. Ульянов писал о политическом характере концепции только с царствования
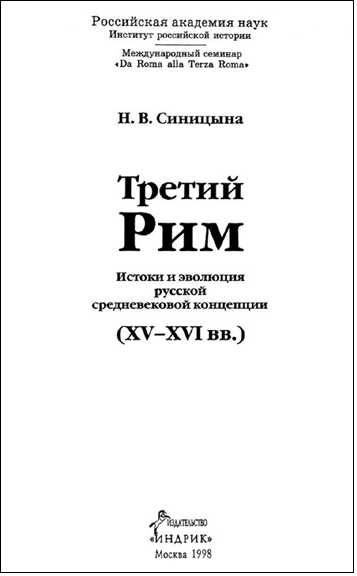
Монография Н. В. Синицыной, посвященная анализу идеи Третьего Рима
Александра II42. Н. В. Синицына отрицала любые параллели концепции инока Филофея и идеологии коммунистического мирового господства.
Сибирский историк Елена Александровна Бауэр посвятила данной теории кандидатскую диссертацию и монографию «Идея „Москва — третий Рим“ в русской общественной мысли конца XV — начала XVII вв.: отечественная историография XX столе-тия»43. В своей капитальной работе Е. А. Бауэр анализирует историографию вопроса. Не только Н. И. Ульянов считал, что в XVI в. концепция Филофея была практически не известной современникам, так же полагали и многие отечественные ученые: Н. М. Зернов, Д. С. Лихачев, О. В. Трахтенберг, М. О. Скрипиль, В. Б. Кобрин44. Очень подробно Е. А. Бауэр излагает основные положения статьи Н. И. Ульянова в самом положительном тоне. Она вместе с этим заостряет внимание на ульяновской критике авторов «Социалистического вестника»45.
Приведем также мнение доктора философских наук, профессора Высшей школы экономики Владимира Карловича Кантора. В статье «„Москва — Третий Рим“: реалии и жизнь мифа»46 он дает подробный анализ историко-философского мифа, связанного с общехристианским мотивом покаяния. В. К. Кантор утверждает: «По справедливому наблюдению Н. И. Ульянова, русские в концепцию Москвы как третьего Рима не вкладывали политического содержания, они спасали христианство». Также он подчеркивает: «Как бы ни приписывали потом русские мыслители и западные советологи Филофею великие государственные замыслы на всемирное господство, он думал лишь о спасении православия, которое для него было равно христианству»47.
В 2005 г. краевед Елена Травина в газете своего мужа в серии «Имперские мифы» опубликовала статью о теории «Москва — третий Рим» под названием «Миф второй о богоизбранности России». В ней, в разделе «Квасной патриотизм», рассказывается об империалистском мессианизме теории, пересказываются элементы эссе «Комплекс Филофея» (даже монах Адсо есть), но без критического похода Н. И. Ульянова. Зато царская и советская внешняя политика считается единой и сравнивается с арийским, расовым мессианизмом III Рейха…48 Действительно, в политической деятельности ничего нового не появляется…
Таким образом, Н. И. Ульянов — профессиональный историк, последний ученик академика С. Ф. Платонова, сам узкий специалист в XVII вв. российской истории, выступил в печати против концепции, выдвинутой меньшевиками Е. Юрьевским (псевдоним Н. В. Вольского — Н. Валентинова) и П. А. Берлиным на страницах «Социалистического вестника», о политической идентичности и тождественности «Третьего Рима» с Третьим Интернационалом. Как точно отметила Е. А. Бауэр, характеризуя позицию Н. И. Ульянова, «очернением русского исторического процесса названа ученым попытка выявить истоки политики большевизма посредством обращения к традициям и практике Древней Руси. Доказательства того, что „музыка Филофея“ меньше всего походила на „марш Буденного“49, Н. И. Ульянов и приводит в своей статье „Комплекс Филофея“»50.
Список литературы Историк Н. И. Ульянов и теория «Москва - третий Рим»
- Андреев Н. «Свиток» Н. И. Ульянова. Рец. на кн.: Ульянов Н. Свиток. Нью Хэвен: Киннипиак, 1972. 223 с. // Новый журнал. 1973. № 113. С. 233–241.
- Андреев Н. Иван Грозный и иконопись XVI века // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1938. Vol. 10. С. 185–200.
- Андреев Н. Инок Зиновий Отенский об иконопочитании и иконописании // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1936. Vol. 8. С. 259–278.
- Андреев Н. Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1935. Vol. 7. С. 228–244.
- Базанов П. Н. «Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова. СПб.: Владимир Даль, 2018. 511 с.
- Базанов П. Н., Вахитов Р. Р., Гаврилов И. Б. [и др.] Евразийство: pro et contra. К 100‑летию выхода сборника «Исход к Востоку». Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2023. № 2 (13). С. 12–52.
- Бауэр Е. А. Идея «Москва — третий Рим» в русской общественной мысли конца XV — начала XVII вв.: отечественная историография XX столетия: автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2008. 26 с.
- Бауэр Е. А. Идея «Москва — третий Рим» в русской общественной мысли конца XV — начала XVII вв.: отечественная историография XX столетия: Монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. 127 c.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-Press, 1955. 159 c.
- Вернадский Г. В. Россия в средние века / Пер. с англ. Е. П. Беренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой. Тверь: ЛЕАН; М.: АГРАФ, 1997. 350 с.
- Кантор В. «Москва — Третий Рим»: реалии и жизнь мифа // Вестник Европы. 2014. № 36. URL: https://magazines.gorky.media/vestnik/2013/36/moskva‑8212‑tretij-rim-realii-i-zhiznmifa.html (дата обращения: 19.09.2024).
- Карпович М. М. Комментарии: 1. О русском мессианстве // Новый журнал. 1956. № 45. С. 274–279.
- Легеев М., свящ, Макаров Д. И., Василик В., протодиак., Даренский В. Ю., Скотникова Г. В., Сокурова О. Б., Кибальниченко С. А., Стогов Д. И., Павлюченков Н. Н., Ермишина К. Б., Иванов И., свящ, Гаврилов И. Б. «Москва — Третий Рим»: к 500‑летию русской средневековой историософской концепции. Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2024. № 4 (19). С. 34–73.
- Масленникова Н. Н. К истории создания теории «Москва — третий Рим» (по поводу статьи Н. Е. Андреева «Филофей и его послание к Ивану Васильевичу») // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. XVIII. С. 569–581.
- Медоваров М. В. В. П. Никитин и его место в евразийском движении // Русско-Византийский вестник. 2021. № 4 (7). С. 57–74.
- Никитин В. П. Письмо В. П. Никитина Н. И. Ульянову от 27 авг. 1956 г. // Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library Bakhmeteff Archive of the Russian and East European History and Culture (BAR). V. P. Nicitin Papers. Box. 1. Files: Переписка Н. И. Ульянова. Нью-Йорк, 1956–1957 гг. 2 л.
- Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М.: Индрик, 1998. 416 с.
- Степун Ф. А. Москва — Третий Рим // Чаемая Россия. СПб.: РХГИ, 1999. С. 365–386.
- Травина Е. Миф Второй о богоизбранности России // Дело. 2005. 4 июля. С. 9.
- Ульянов Н. И. Комплекс Филофея // Новый журнал. 1956. № 45. С. 249–273.
- Ульянов Н. И. Комплекс Филофея // Ульянов Н. Свиток. Нью Хэвен, 1972. С. 95–120.
- Ульянов Н. И. Петровские реформы // Санкт-петербургская панорама. 1992. № 5. С. 3–4; 16–18.
- Ульянов Н. И. Письмо Н. И. Ульянова В. П. Никитину от 16 сентября 1956 г. // Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library Bakhmeteff Archive of the Russian and East European History and Culture (BAR). V. P. Nicitin Papers. Box. 1. Files: Переписка Н. И. Ульянова. Нью-Йорк, 1956–1957 гг. 2 л.
- Ульянов Н. И. Позорный рецидив // Спуск флага. New Нawen, 1979. С. 72–82.
- Ульянов Н. И. Соблазны истории // Скрипты. Ann Arbor, 1981. С. 65–70.
- Филофей Послания старца Филофея: «Послание о злыхъ днехъ и часѣхъ», «Послание к великому князю Василию, в немъже о исправлении крестнаго знамения и о содомском блудѣ» / Подгот. текста, пер. и коммент. В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси / ИРЛИ РАН (Пуш. Дом). СПб.: Наука, 2006. Т. 9: Конец XIV — первая половина XVI века. 566 с.
- Andreyev N. Filofey and his Epistle to Ivan Vasilyevich // Slavonic and East European Review. 1959. Vol. 38. P. 1–31.