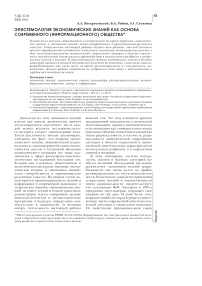Эпистемология экономических знаний как основа современного (информационного) общества возникновения
Автор: Воскресенский Алексей Александрович, Рабош Василий Антонович, Сунягина Анна Германовна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (53), 2019 года.
Бесплатный доступ
В наши дни в научном, общественном и политическом дискурсах термины «экономические знания» и «экономика знаний» часто употребляются в принципиально различных смыслах. Актуальность настоящей работы вызвана тем фактом, что под влиянием кризиса традиционной методологии появлением множества типов рациональности, в том числе рациональности экономической, современная ситуация в области социальной и экономической эпистемологии характеризуется колоссальным разбросом и плюрализмом мнений и позиций. В этом отношении система методологии, законов и базовых категорий наиболее активной обсуждаемой последние десятилетия «экономики знаний» разрабатывается уже очень долго, но крайне разнонаправленно и с отсутствием системности. Данная работа направлена на устранение этих лакун в отечественной и зарубежной методологии науки.
Экономика знаний, экономические знания, постмодерн, реиндустриализация, постинформационное общество, знание и информация
Короткий адрес: https://sciup.org/140244738
IDR: 140244738 | УДК: 37.01
Текст научной статьи Эпистемология экономических знаний как основа современного (информационного) общества возникновения
Воскресенский А.А., Рабош В.А., Сунягина А.Г. Эпистемология экономических знаний как основа современного (информационного) общества возникновения // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 4. – С. 65–67.
Дискуссии на тему экономики знаний длятся уже многие десятилетия, причем актуализируются «циклично»: после каждой волны всплеска исследовательского интереса следует закономерный спад. Такая цикличность вполне закономерна, учитывая тот факт, что вопросы экономического знания, экономической рациональности, закономерностей смены экономических циклов и тенденций эволюции экономического познания все чаще оказываются в сфере философско-эпистемологических исследований последних лет. В наши дни в научном, общественном и политическом дискурсах термины «экономические знания» и «экономика знаний» часто употребляются в принципиально различных смыслах. Во втором случае акцентируется производящая роль знаний и информации в современной экономике, в то время как понятие «экономических знаний» не имеет четкой и точной трактовки, демонстрируя подчас совершенно разные эпистемологические и методологические программы и подходы, определяясь контекстуально в зависимости от позиции автора. Актуальность настоящей работы вызвана тем, что под влиянием кризиса традиционной методологии классической политэкономии, кризиса математического естествознания как универсального языка описания событий, появлением множества типов рациональности, в том числе, рациональности экономической современная ситуация в области социальной и экономической эпистемологии характеризуется колоссальным разбросом и плюрализмом мнений и позиций.
В этом отношении, система методологии, законов и базовых категорий наиболее активной обсуждаемой последние десятилетия «экономики знаний» разрабатывается уже очень долго, но крайне разнонаправленно и с отсутствием системности. В частности, господство принципов плюрализма мнений и множественности типов рациональности свидетельствует, что заложенная Ж.Ф. Лиотаром в 1970-х программа «постмодерна» сохраняет свое влияние по сей день. И даже более того, выражает наиболее характерные и существенные черты современной эпистемологической ситуации в социальном познании. Ей свойственна принципиальная смена
* Работа поддержана грантом РФФИ 18-011-00759а Формирование постматериальных ценностей молодежи в образовательном пространстве и молодежных субкультурах: социокультурная аналитика состояния развития и прогностика социальных рисков.
Общество
акцентов и подходов не к решению, а к постановке проблемы, императив к «деконструкция» самой проблемы значений знаний, истинности, условий достоверности выдвигаемых суждений [2].
Существующие эпистемологические проекты, направленные на преодоление этой очевидной методологической лакуны (неомарксизм, неопрагматизм, неолиберализм, и даже когнитивный капитализм), выдвигая и плодя при этом во множестве изобретения философской и социально-экономической мысли под названиями «постинформационное общество», «общество знаний», «сверхтехнологичное общество», «общество сете-
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019
вых структур», «креативная экономика», «цифровая экономика» и т.д., не столько разрешают существующие проблемы, сколько запутывают научную общественность обилием мало и слабопроясненных понятий и категорий. Все вместе эти факторы и актуализируют проблему экономической субъективности, а также самих условий достоверности и истинности так. наз. «экономики знаний» [4].
Распространение в последней трети XX века принципа методологического плюрализма мнений в эпистемологии, в частности, на условия идентификации достоверного экономического знания обусловило сформированные убеждения об эпистемологической нейтральности и множественности, ситуативности истины (лингвистическая, прагматическая, герменевтическая и т.д.). Данные факты привели к парадоксальной ситуации: поскольку классическая или даже неклассическая (ссылающаяся на саму себя) концепция истинности экономических знаний не отвечает вызовам научного поиска современности, то и само понятия экономических знаний в контексте «экономики знаний» размывается, как не имеющее ни конкретного содержания, ни эпистемологического значения, ни эвристического потенциала [3, с. 10]. Даже в философии и методологии науки последних десятилетий понятие «истинного знания», ранее определявшее теоретическую и практическую значимость, а также сами цели и смысли научного познания, используется крайне редко. В частности, в экономике знаний отсутствует четкое понимание того, что же здесь имеется в виду под «Знаниями».
Различия в аспектах проявления экономического сознания могут быть адекватно объяснены тем или иным сочетанием качественных и количественных характеристик знания. Однако, возникает вопрос, является ли такой вопрос сферой «работы» социальной и философской эпистемологии? Да, бесспорно, сегодня мы наблюдаем возможность поистине безграничного распространения информации, в противовес материализованным товарам или даже услугам, хоть и с оговоркой, признавая факт того, что любая информация создается, распространяется и потребляется, актуализируясь как знание, прежде всего за счет материальных, технических средств. Именно в этом смысле потенциал распространения информации как «общественного достояния», «всеобщего богатства» и т.д. невероятен. Бесспорно, знания, особенно технико-экономические, существенно связаны с материально-технической базой общества, более того, они взаимообусловлены. Любая «информационная», «постинформационная», «цифровая» и т.д. экономики знаний были бы абсолютно невозможными, не располагай человечеством сложнейшей автоматизированной индустрией: материальным производством.
В этом отношении распространение ИКТ и тотальная компьютеризация как важнейшее условие появления экономики знаний стали возможными благодаря разработке труднодобываемых металлов и элементов, успехами в области химической и машиностроительной промышленности индустриального общества. В этом отношении образовательные тренды, возникающие в экономике знаний «учись учиться», «учись находить информацию» вместо, собственно «знать, уметь, владеть», базируются на колоссальных масштабах промышленного производства, позволяющем «сказку сделать былью», т.е. создать и поддерживать серверы хранения данных, осуществлять быструю связь между различными техническими информационными устройствами, находящимися в разных точках земного шара, системы спутников, кабелей, электростанции, и прочая инфрастурктура, без работы которой невозможно представить себе никакую экономику знаний.
Из этого можно сделать вывод, что НТР 2-й половины XX века вызвала резкое повышение фондоемкости труда [5], т.е. увеличение абсолютного количество овеществленного труда на единицу продукции (т.е., труда, воплощенного в продукте, что дает повод некоторым современным исследователям говорить о «реиндустриализации» общества). Этот факт серьезно корректирует появившийся в последние годы в рамках экономики знаний тренд на то, что «социальное одобрение в виде лайков в соцсетях важнее материального производства», иными словами, брендинг важнее продукта. На этом фоне роста фондоемкости росли и требования к знаниям технологии производства для работников, функционировавших в производственной сфере или в отраслях, непосредственно к ней примыкавших (транспорт, связь, финансы, сфера услуг).
Система производства и организационной структуры предприятий становилась все более полиотраслевой и многоцелевой, найдя свое воплощение в ТНК (транснациональных корпорациях). Этот, существенно усилившийся полиотрасле-вой многоцелевой аспект развития материального производства уничтожил понятие «экономической эффективности», характерное для философско-эпистемологической модели тейлоризма, вынудив искать новые средства экономического стимулирования, которым как раз стал принцип «сверхэффективности», характерный для экономики знаний. Вместо классического «конвейерного» работника индустриального общества, всю жизнь выполнявшего очень узкий спектр задач, был сформирован культ постоянно меняющего специальность, занимающегося перманентной переориентацией и переобучением под принципом эффективности, специалиста. Работник в экономике знаний должен был заниматься постоянной флексибилизацией , т.е. переадаптиро-ваться и сохранять чрезвычайно высокую социальную мобильность.
Подводя итоги, необходимо ответить на вопрос о том, какую же роль играют
Список литературы Эпистемология экономических знаний как основа современного (информационного) общества возникновения
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. - М. Постум. 2018. - 240 с.
- Микиртумов И.Б. Философская логика: трилемма номологии, социологии и физиологии // Философские науки. - 2017, № 1. - С. 85-94.
- Соломин В.П., Султанов К.В., Воскресенский А.А. Концептология экономических знаний: к вопросу об основаниях // Общество. Среда. Развитие. - 2016, № 1. - С. 10-13.
- Стрельченко В.И. Проблема идентификации истинностных значений // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2015, № 175. - С. 107-112.
- Черковец В.Н. К ренессансу планомерного функционирования и развития экономики России? // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 2015, № 2. - С. 56-65.
- Широв А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. - 2019, № 2. - С. 37-46.