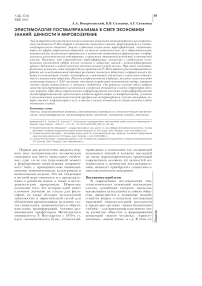Эпистемология постматериализма в свете экономики знаний: ценности и мировоззрение
Автор: Воскресенский Алексей Александрович, Султанов Константин Викторович, Сунягина Анна Германовна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 1 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Анализируются эпистемологические основания концепции постматериализма американского политолога Р. Инглхарта в контексте экономики знаний, формирующейся в позднеиндустриальном обществе. Анализ глубинных социальных трансформаций, захватывающих все сферы современного общества: не только экономическую, но и образовательную, политическую, ценностную представлен в контексте соотношения формальных и неформальных аксиологических конструктов, в сравнении отношений ценностей и отношений власти. Показано, что существенные трансформации, связанные с глубинными изменениями ценностной сферы жизни человека в «обществе знаний», интенсифицировали процесс движения к новому технико-экономическому укладу жизни. При этом постматериальные ценности, идея которых была предложена Р. Инглхартом, рассматриваются в работе как имагинативный капитал развития человека и общества, направленный в будущее и позволяющий «снять» некоторых из сложностей, связанных с заявленным движением к новому типу общества. Именно устремленность в будущее, желание максимальной самоактуализации в XXI столетии начинает определять ценностный выбор, который может стать автономным и подлинно свободным. От решения именно этого вопроса зависит конституирование ценностного измерения отношений в новых структурах сетевого порядка. При этом современность информационной или даже сверхинформационной (постинформационной) цивилизации актуализирует вопрос о своевременности, условиях и возможностях эпистемологической программы экспертократии: власти экспертов, лидеров мнений, инфлюенсеров и т.д., а также о самих основаниях их деятельности в свете экономики знаний.
Знания, имагинативный капитал, когнитивный капитализм, неклассическая эпистемология, постматериализм, постматериальное, ценности, экономика знаний, эпистема
Короткий адрес: https://sciup.org/140293829
IDR: 140293829 | УДК: 37.01
Текст научной статьи Эпистемология постматериализма в свете экономики знаний: ценности и мировоззрение
Первые два десятилетия двадцать первого века воспринимались человеческим сознанием как нечто эпохальное, особенное, едва ли не как переломный момент и формирование цивилизации совершенного типа, с принципиально инновационными экономическими, культурными и ценностными кодами. Эта же тенденция в полной мере относится и к представлениям о развитии науки, а также к исследовательским программам. Появилось осознание того, что история идей имеет ключевое значение не только для философии, но также обладает колоссальной значимостью и эвристической силой для объяснения происходящих на наших глазах социальных, экономических и образовательных трансформаций. Активно развивавшаяся профессором Мичиганского университета Р. Инглхартом с 1970-х гг. идея «экономического бума», технологий, приведших к появлению так называемой экономики знаний и влияние последней на смену мировоззренческих ориентаций современного человека (от ценностей материальных к ценностям постматериальным) начинает приобретать социально-эпистемологическое измерение.
Постановка проблемы
В современных исследованиях эпистемологических оснований постматериализма, концепция которого оказалась чрезвычайно актуальной в условиях общества, движущегося к экономике знаний, ставится вопрос о попытках постижения нынешней социокультурной реальности в предельно крупных «цивилизационных линиях» – как принципиально нового этапа развития общества и формирования концепций «нового человека», «трансгуманизма», «новой этики» и т.д. В этом от-
Общество
ношении эпистемологическая программа постматериализма пытается утвердить и отрефлексировать «новое начало» осмысления цивилизационного масштаба трансформации ценностных установок личности в мире «после» истории. Прежде всего здесь необходимо отметить, что постматериализм – это отнюдь не сформи- рованная и застывшая как вулканическая магма концепция, которую можно описывать языком учебника и антологии. Это живая концепция, находящаяся в процессе активного становления, дополняясь и
Общество. Среда. Развитие № 1’2022
корректируясь, вызывая к жизни смежные исследовательские эпистемологические программы. При этом нерешенными остаются проблемы, связанные со значительными расхождениями, существующими между психолого-педагогическими, философско-антропологическими, социально-философскими, а также социальной и образовательной практиками. Эти попытки часто в современной науке называются «концептуальным конструированием» (Б.И. Пружинин) – построением изящных теоретических моделей, объяснительная сила которых применительно к практике стремится к нулю. В этом смысле, заявленная проблема настоящего исследования связи постматериализма, экономики знаний и ценностного мира современного человека предполагает постановку и последовательное решение следующих вопросов:
– Как проходит личностная и профессиональная идентификация и самоидентификация представителей «цифрового поколения» с учетом все более выраженного влияния эпистемологической программы постматериальных ценностей?
– Особенности формирования и трансформации системы ценностей, личностных предпочтений и стратегий жизненного выбора тех людей, которые принадлежат к различным поколениям и субкультурам, учитывая при этом характерные для этих поколений и субкультур формы активности, виды и особенности коммуникации, опасности манипулятивного воздействия и т.п. Данный вопрос является критически важным, учитывая, что концепции постматериализма, «постматериального», постматериальных ценностей описывают как раз явления, процессы и изменения, которые делаются возможными исключительно в экономике знаний.
– Как влияет идея постматериализма на образовательные практики в экономике и обществе, основанных на знаниях.
– Выявление образовательных условий и возможностей наиболее успешного и эффективного включения молодежи в полилогичную коммуникацию с другими поколениями.
– Новые модели и трансформации прежних образа и профессиональных функций преподавателя (тьютор, коуч, фасилитатор, наставник, партнер и т.п.), ведущего учащегося к его собственным целям, о чем, в частности, шла речь в предыдущих исследованиях [2, с. 87].
Методологические подходы к решению проблемы
Вместе с тем, при более пристальном рассмотрении вопрос об эпистеме постматериального, оказывается выходящим далеко за рамки своей первоначальной идеи о генезисе постматериальных ценностей, «теории поколений», различных эпистемологических программах постмодерна (смерть автора, конец истории, деконструкция субъекта, дискурс знания-власти и т.д.), что позволяет некоторым исследователям (Р. Инглахрт, В. Иноземцев, В. Мартьянов и др.) говорить о рождении нового цивилизационного уклада и эпистемологической программы – «постматериализма».
Как отмечает В.С. Мартьянов, «...длящийся более 30 лет “Всемирный мониторинг ценностей” (World Values Survey, WVS) на межстрановом уровне демонстрирует значимую статистическую зависимость: повышение уровня жизни людей приводит к росту постматериальных ценностей самореализации, доверия, ответственности, заботы о людях и природе, а также ценностей открытости изменениям. В то же время низкий уровень жизни населения коррелирует с сохранением доминирующей роли носителей консервативных материальных ценностей выживания, сохранения и самоутверждения. На фоне уже решенных материальных проблем индивидов в постиндустриальных обществах приоритетными для них становятся ценности самореализации и саморазвития, формирующие контуры новой политической этики и часто интерпретируемые как постмодерные. Эти ценности проявляются в растущем моральном неприятии такого социально-политического статус-кво, в котором господствующей ценностной стратегией граждан является демонстрация социально одобряемого поведения и выживание как пассивная адаптация к наличным и считающимися неизменными общественным нормам и практикам» [6]. В этом отношении, как отмечает другой исследователь Дж. Хикс, по мере накопления благосостояния оно все более утрачивает свою значимость для человека, на первый план выходят новые, более субъективистские критерии (например, индекс оценки «качества жизни») – такие, как свобода, безопасность, доверительность, справедливость [11].
В этой связи необходимо вспомнить связь мышления К. Маркса с поздними произведениями Ф. Ницше, особенно с «Волей к власти», что в современной российской философии подчас остается в тени. Ценностная установка мышления Ф. Ницще представляет собой, по сути, идеал развития силы ради силы, – реализации власти как самоцели, – ради самой власти. При этом нужно особо подчеркнуть, что сам термины «постматериальное», «постматериализм», «постматериальные ценности» и т.д., представляясь весьма эври-стичными в конце XX века, тем не менее, на сегодняшний день не являются чем-то инновационным, по своей сути. Так, основная идея самого цитируемого в последние годы представителя social studies Рональда Франклина Инглхарта, автора термина «постматериализм», заключается в том, что в достаточно богатых экономически развитых западных странах после всех революций, войн и катаклизмов XX века начинает формироваться новая ценностная парадигма, не связанная напрямую с обеспечением безопасности человека, но движимая в будущее – «постматериальными ценностями». И действительно, приведенная ранее статистика подтверждает эту выкладку американского исследователя. Однако, все ли так просто и безоблачно? Согласно концепции Рональда Ин-глхарта [4, с. 25–75], именно ценностные установки, в основном, молодых людей, на долю которых не выпало переживание катаклизмов XX столетия, выступают основой и базисом экономических и социеталь-ных моделей позднего постиндустриального общества, основой развития новейшей социальной философии и философии образования. В рамках данной теории на пути к обществу, основанному на знаниях, «традиционные» материалистические ценности, обеспечивающие выживание и адаптацию к экономической, социальной, политической и духовной сферам общества уступают свое место ценностям постматериальным, ведущим к максимальному самовыражению и раскрытию творческого потенциала личности (стремление к независимости, свобода выбора, ориентация на максимальную плюральность, качественное образование, саморазвитие, мгновенный доступ к информации из любой точки мира, при этом информация должна быть без каких-либо ограничений и тд), что коррелирует с изменениями в экономическом укладе западных обществ, традиционно обозначаемых в науке как движение к «экономике знаний».
Р. Инглхарт, в частности, отмечает, что произошедшая в сознании человека XX века ценностная революция сделала акцент на том, что ценности, мотивация, выбор жизненной программы, да и просто поведение человека зависят прежде всего от того, насколько безопасно он себя ощущает в мире, что задает биологические рамки детерминации социального процесса в работах американского исследователя. Далее Р. Инглхарт указывает, что именно процессы, связанные с выживанием личности в жестоком мире капитализма находились в опасности на протяжении большей части человеческой истории, это делало сильный акцент на групповой солидарности, неприятии чужаков и повиновении сильным лидерам. И наоборот, возникающий в постиндустриальном обществе «после истории», идеологической борьбы, революций и мировых войн высокий уровень экзистенциальной безопасности способствует открытости к изменениям, разнообразию и новым идеям. Модернизация и стремительное экономическое развитие создали определенную «социальную подушку» безопасности во многих странах после Второй мировой войны, где люди воспринимали выживание как само собой разумеющееся. Процветание и экзистенциальная безопасность послевоенной эпохи привели к культурным изменениям, движению за защиту окружающей среды и распространению демократии, снижению авторитаризма и роста роли и значения постматериальных ценностей: эгалитарных норм, секуляризации, терпимости, гендерного равенства, доверия, терпимости к разводам и т.д. Свобода выбора в «постматериальных обществах» приводит к «увеличению счастья». В настоящее время Р. Инглахрт видит негативную реакцию в усилении авторитаризма, политического популизма и разрушения подлинной демократии растущим экономическим неравенством.
Согласно эпистемологической программе Р. Инглхарта, у предыдущих поколений образование являлось базой, на основе которой они потом годами, постепенно выстраивали свою карьеру в одном
Общество
Общество. Среда. Развитие № 1’2022
направлении. Так, «Иксам» была важна стабильность в работе, а карьерный рост отходил на второй план; на долю «игреков» же выпали колоссальные скачки в техническом прогрессе, поэтому позволить себе быть специалистами узкой направленности они не могли – отсюда максимальная социальная и сетевая интеграция – выраженная ориентация на саморазвитие, подтвержденная дипломами, сертификатами и т.д. Именно поэтому «Игрекам» нужно было постоянно самосовершенствоваться, чтобы сохранять свои конкурентные преимущества, хотя и это отнюдь не гарантировало им стабильность в работе. Следствием этой позиции стал тот факт, что среди представителей этого поколения часто встречаются инженеры, занявшиеся, например, продажами, и физики, ушедшие в IT, психологи и педагоги, ушедшие в коучинг и «лайф-стайл тренинги». Люди подстраивались под потребности рынка труда и образование, а точнее сказать, самообразование было единственным ключом к конкурентоспособности и выживанию.
Статистика профессионализации «зу-меров», которые в большинстве своем являются носителями эпистемологической программы постматериализма, пока еще недостаточна для того, чтобы можно было сказать что-либо об их профессиональных особенностях, но вот тенденции в образовании и дальнейших перспективах его использования уже видны. У «зумеров» появляются ФГОСы и ЕГЭ, поэтому образование для них является чем-то обязательным и непонятным в применении. Многие «зумеры»-школьники уже осознали свои возможности в самообразовании и развитии, а для самых смелых и сообразительных школа и вовсе перестает быть чем-то полезным, ведь всю интересную и важную информацию можно почерпнуть из интернета бесплатно при помощи одного голосового запроса, используя смартфон. Причины таких тенденций смены эпистемологических программ многообразны и очень различны, в рамках данной работы невозможно их перечислить. Однако, можно выделить главную – это смена целеполагания науки и того, что мы считаем знанием: и то, и другое все больше становятся деятельностью, целью которой выступает решение конкретной задачи. Отсюда в сознании молодежи меняются сами представления о знаниях, формируя новую эпистемологическую программу их понимания, ранжирования и ценности:
– знание непонятно, следовательно, не принимается;
– знание непонятно, но и не «конфликтно» по отношению к другим представлениям, поэтому принимается;
– знание понятно, но не «конкурентоспособно» по отношению к уже имеющимся знаниям;
– знание понятно настолько, что способно изменить ранее сформировавшиеся представления.
Следствием такой свободы и максимальной широкой сетевой социальной, образовательной и профессиональной интеграции становится феномен «миро-воззренческрй запутанности»: молодежь слышит про свободу выбора индивидуальных образовательных маршрутов, но при этом их жестким ограничителем в смене интересов является ЕГЭ; им твердят про важность разностороннего мышления и ограничивают шаблонными и субъективными экзаменами. Отсюда берутся пренебрежительное отношение к учебе и образованию в целом; частые переходы студентов из одного ВУЗа в другой и смена специальности; выпускники, «взявшие паузу» на несколько лет после школы для самоопределения. «Зеты» осознают свободу своих возможностей, но зачастую не понимают как ее использовать и к чему применять.
Выводы
Подводя итоги, необходимо ответить на вопрос о том, какую же роль играет концепт «постматериального», особенно постматериальных знаний в контексте информационного общества?
- Во-первых, Знания, начиная со второй половины XX века, становятся непосредственной производительной силой, выступая условием воспроизводства многих социальных систем с технико-экономической точки зрения. В этом отношении, с технико-экономической точки зрения они являются условием современного производства в значительно большей степени, нежели когда-либо прежде.
- Во-вторых, императив на постоянное обновление, актуализацию и воспроизводство знаний стал условием материального, и, шире – социального воспроизводства, формирования совокупного общественного продукта и социального капитала в современном обществе. При этом потребительскую стоимость сами знания даже сегодня, когда их роль как никогда высока, не создают. Для функционирования системы знаний и экономики, на знаниях построенной, по-прежнему необходимы конкретные материальные носители – продукты современного материального производства.
- И, в-третьих, характерной чертой современности становится наличие знания буквально в каждом продукте, товаре или услуге – или в интеллектуальной, «интеллигибельной», или в опредмечен-ной форме. То есть, в этом смысле, с точки зрения социально-экономической, объективно-истинные научные знания, точно отражающие действительность и позволяющие прогнозировать будущее, являются важнейшим ресурсом власти и источником социального и экономического неравенства.
Данные изменения трансформируют субъектность личности, за изменениями в которой следует появление инновационных образовательных парадигм, которые были бы направлены на формирование у молодежи экспертности в таких областях, как:
– Креативность и инновационность – идеология стартапов, мультидисципли-нарность, неожиданные точки пересечения интересов – образование и бизнес, общественная работа и сфера IT, инфор- мационные технологии и гуманитарная безопасность, и т.д.
– Чрезвычайно высокая скорость отбора, пересмотра, внедрения в свою жизненную и профессиональную практику новых моделей, быстрое получение обратной связи, непрерывная актуализация прошлого опыта с точки зрения запросов настоящего, постоянная рефлексия.
– Формирование компетенции инновационного потенциала – человеческий, социальный, культурный капитал.
В этом смысле эпистемологическая программа постматериализма актуализирует критическую ревизию как традиционной научно-рациональной картины миры, которая лежит в основе адаптационных и преобразовательных стратегий общества, так и самой образовательной деятельности, призванной готовить людей, обеспечивающих реализацию данных стратегий в новой экономике, в которой знания начинают играть все большую роль. В силу этого в последнее время активно развиваются новые направления, подходы и программы, которые в своих аналитических сводках отталкиваются от глобального анализа современности и формирующейся новой парадигмы новой картины мира.
Список литературы Эпистемология постматериализма в свете экономики знаний: ценности и мировоззрение
- Визгин В.П. Эпистемология Гастона Башляра и история науки. - М.: ИФРАН, 1996. - 263 с.
- Воскресенский А.А., Рабош В.А., Сунягина А.Г. Постматериальные ценности поколения Z на пути к обществу знаний - к постановке проблемы // Общество. Среда. Развитие. -2018, № 1. - C. 84-87.
- Инглхарт Р., Вецель В. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. - М.: Новое издательство, 2011. - 464 с.
- Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. - М.: Логос. 2000. - 323 с.
- Касавин И.Т. Знание и реальность в исторической эпистемологии // Эпистемология и философия науки. Т. 57. - 2020, № 2. - C. 6-19.
- Мартьянов В.С. Глобальный модерн, постматериальные ценности и перефирийный капитализм в России // Полис. - 2014, № 1. - С. 83-98. - DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2014.01.06
- Порус В.Н. Эпистемология: некоторые тенденции // Вопросы философии. - 1997, № 2. - С. 93-111.
- Пую Ю.В., Романенко И.Б., Султанов К.В. Манипулятивные воздействия и образовательные технологии: формирование дискуссионно-диалоговой культуры // Общество. Среда. Развитие. - 2015, № 4. - С. 132-137.
- Романенко И.Б., Соломин В.П., Султанов К.В. Социальный и человеческий капитал: дифференциация подходов // Общество. Среда. Развитие. - 2015, № 3. - С. 102-106.
- Социальная эпистемология. Идеи, методы, перспективы / Под ред. И.Т. Касавина. - М.: Канон+, 2010. - 712 с.
- Хикс Дж., Ален Р. Пересмотр теории ценности // Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребления и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 2000. - С. 117-141.
- Prensky M. On the Horizon // MCB University Press. Vol. 9. - 2001, № 5.