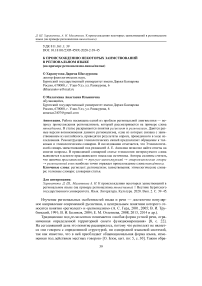К происхождению некоторых заимствований в региональном языке (на примере регионализма пинка/пимка)
Автор: Харанутова Дарима Шагдуровна, Малаткина Анастасия Ильинична
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена одной из проблем региональной лингвистики — вопросу происхождения регионализмов, который рассматривается на примере слова пинка/пимка. В статье раскрываются понятия региолект и регионализм. Даются разные версии возникновения данного регионализма, одна из которых связана с заимствованием из английского, приводятся результаты опроса, проведенного в ходе исследования. Реконструкция этимологических связей предполагает обращение к толковым и этимологическим словарям. В исследовании отмечается, что Этимологический словарь заимствований под редакцией А. Е. Аникина позволил найти ответы на многие вопросы. В приводимой словарной статье этимология интересуемого слова выявляется в аспекте праславянского языка как источника. Авторы склонны считать, что цепочка праславянский → тунгусо-маньчжурский → старожильческие говоры → региональный язык наиболее точно отражает происхождение слова пинка/пимка
Региолект, регионализм, заимствования, этимологические словари, толковые словари, словарная статья
Короткий адрес: https://sciup.org/148315636
IDR: 148315636 | УДК: 811.161.1: 39 | DOI: 10.18101/2305-459X-2020-2-39-45
Текст научной статьи К происхождению некоторых заимствований в региональном языке (на примере регионализма пинка/пимка)
Харанутова Д. Ш., Малаткина А. И. К происхождению некоторых заимствований в региональном языке (на примере регионализма пинка/пимка ) // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2020. Вып. 2. С. 39‒45.
Изучение региональных особенностей языка и речи — достаточно популярное направление современной русистики, к центральным понятиям которого относятся понятия «региолект» и «регионализм» (А. С. Герд, 2001, 2005; В. И. Тру-бинский, 1991; В. И. Беликов, 2004; Е. М. Оглезнева, 2008, 2013, 2014 и др.).
Традиционно под региолектом понимается «особая форма устной речи, ограниченная определенной территорией своего функционирования» [8, с. 22]. На сегодняшний день это понятие расширилось, потому что региолект не является «ни говором с определенной структурой, ни однородной языковой системой, так как известно, что в ней преобладает общенациональная форма языка, измененная под действием местных говоров» [О. Блок, цит. по: 5, с. 30]. Таким обра- зом, можно говорить о его синонимии с понятием региональный вариант общенародного языка. Итак, «региолект — это такое языковое образование, которое призвано обслуживать повседневное общение носителей языка в том или ином регионе полиэтнического языкового сообщества независимо от их социального положения, возраста, пола и т. п.» [13, с. 15].
Региональные особенности русского языка Байкальского региона географически очерчивается территорией Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края [10, с. 5].
Для обозначения региональных лексем из существующего ряда терминов ( регионализм, локализм, провинциализм) наиболее точным, на наш взгляд, является термин регионализм.
По мнению Т. А. Кадоло, к регионализмам следует относить «слова, функционирующие на определенной территории, не зафиксированные в толковых словарях литературного языка или получающие в них пометы обл., местн., прост., разг. » [12, с. 22]. Более уточненное определение находим у И. С. Зварыкиной: под понятием «регионализм» понимается «единица языка того или иного региона, которая, в отличие от диалектного слова, используется жителями вне зависимости от различных социальных факторов (пол, возраст, образование и т. п.) преимущественно в устной коммуникации, но также функционирует в текстах художественной литературы, региональных СМИ» [11, с. 214].
Что касается образования регионализмов, безусловно, одним из путей появления регионализмов является заимствование слов. Состав и характер заимствованной лексики русского языка Байкальского региона представляет собой пестротканый ковер, в котором наряду с заимствованиями из языков коренных народов, старожильческих говоров присутствуют и вкрапления из говоров старообрядцев (семейских) и др.
Следует отметить, что в словарном составе русского языка Байкальского региона встречаются регионализмы, происхождение которых установить довольно трудно. Одним из случаев подобного рода, как нам кажется, является судьба регионализма пинка/пимка , употребляющегося в значении «булавка».
Лексему пинка/пимка мы смело можем отнести к регионализмам, так как она функционирует на большей части Байкальского региона и обладает всеми характерными чертами регионализмов: ее функционирование территориально ограничено, слово активно используется в русской разговорной речи региона.
Повсеместность и частотность употребления данной лексемы в нашем регионе выявлены в ходе опроса на знание слова пинка/пимка . Всего в опросе приняли участие 246 человек. Информанты были разделены на три возрастные группы: к первой относятся 48 респондентов старше 50 лет, ко второй — 86 респондентов от 30 до 49 лет включительно, третью группу составили студенты высших учебных заведений г. Улан-Удэ, возрастной состав 18–22 года — 112 человек. При опросе постарались охватить жителей всех районов Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.
Таким образом, в результате статистического анализа данных, полученных при анкетировании, выявилось, что в первой возрастной группе знают и употребляют интересуемое слово 76 процентов из числа респондентов, во второй группе чуть меньше — 54%. В третьей возрастной группе всего 32% ответили утвердительно.
Большая часть из употребляющих слово пинка/пимка — жители Иркутской и Читинской областей или выходцы из этих областей. В Республике Бурятия анкетирование показало, что участники опроса, родившиеся и выросшие в таких районах республики, как Закаменский, Мухоршибирский, Джидинский, не знают его. Двое респондентов утверждали, что оно исконно семейское, так как его употребляют в обиходной речи их бабушки.
При анализе территориального разделения функционирования слова пин-ка/пимка выявлено, что в Иркутской области его знают только жители деревень Приангарья, живущие вдоль Братского водохранилища, жители северных районов, например города Верхоленска, в Забайкальском крае оно повсеместно употребляется жителими Агинского национального округа. Также в ходе опроса первых двух возрастных групп выяснилось, что потомки переселенцев с запада России, осевшие на севере Иркутской области, никогда не употребляли ранее слово пимка . Зато потомкам коренных сибиряков это слово знакомо с детства, его в речи использовали их бабушки и дедушки.
Второй этап исследования — лексикографический. Для того чтобы ответить на вопросы: откуда все-таки пришло данное слово (в том, что это слово заимствованное, не было никаких сомнений), почему оно «осело» именно в Байкальском регионе, причем тоже избирательно, почему в некоторых местах оно произносится пимка , а в других пинка , мы обратились к словарям.
В процессе исследования возникло несколько версий происхождения слова пинка/пимка .
Первое предположение: лексема пинка/пимка заимствована из английского языка, так как она структурно и семантически точно соответствует английскому pin '1. булавка <...>' [3, с. 404]. Анализируемое слово имеет то же звучание и значение, что и английское слово. Логика подсказывает, что если слово пин-ка/пимка пришло в нашу разговорную речь через заимствование из английского языка, то оно должно относиться к общелитературному языку и встречаться в толковых словарях русского языка.
Данное слово в значении «булавка» не обнаружено ни в словаре С. Н. Ожегова [18], ни в словаре Д. Н. Ушакова [21], ни в словаре В. И. Даля [9]. Таким образом, версия о заимствовании из английского не подкреплена фактом употребления в литературном языке.
Проблематика, связанная с происхождением слов, безусловно, предполагает обращение к этимологическим словарям. В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера находим слово пинка, но оно толкуется как «небольшое транспортное судно»: 'впервые пинк , Журнал Петра В.; см. Смирнов, 226. Из ни-дерл., нж.-нем. pink «рыбачья лодка» или ср.-нж.-нем. pinke; ср. англ. pink — то же (см. Фальк-Торп, 828); ср. Маценауэр, lF 12, 341' [20, с. 263].
По мнению А. Е. Аникина, «словарь Фасмера предлагает высококлассную разработку индоевропейских (в самом широком смысле, включая и генетические отношения и заимствования) связей русской лексики» [1, с. 5]. С другой стороны, как отмечает А. Е. Аникин, «есть, однако, целые пласты лексикона, фасмеров- ская разработка которых выглядит в той или иной степени недостаточной» [1, с. 5]. По-видимому, интересующая нас лексема попала именно в этот пласт.
Итак, второе предположение: слово пинка/пимка пришло из семейских говоров (диалектное слово). Да, в «Словаре говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» слово пинка уже определяется как «булавка»: «ПИНКА [пинка], -и, ж. Булавка» [17, с. 344], но не более того. Зато в словаре имеется обширная словарная статья по слову булавка : « БУЛАВКА [блáўка / булáўка / булáфка], -и, ж. Брошь» [17, с. 58]. По-видимому, более употребительным является слово булавка , в словарной статье приведены многочисленные примеры из материалов, собранных во время диалектологических экспедиций.
Более пространное обьяснение и описание происхождения анализируемого слова находим в словаре А. Е. Аникина, где указывается, что пимка `булавка` встречается в амурских говорах с ссылкой на Приамурский словарь. Далее, « пимка, пинка ` английская булавка` ирк. (Ирк. сл. 2: 131), пинка, пимка ирк., бурят., пимка то же прибайк., чит., урал., пимка `заколка для волос` (СРНГ 27: 33) [2, с. 448]. Таким образом, А. Е. Аникин указывает, что исследуемая лексема встречается не только в Иркутской и Читинской областях, Бурятии, но и на Амуре и в уральских говорах.
Вторая часть словарной статьи (этимологическая зона), в которой содержится сравнительно-историческая информация, указывает на тунгусо-маньчжурские связи. В словарной статье читаем, что слово пимка «согласно И. Г. Добродомову (ДЛ 1979: 90), неотделимо от "тунгусского лексического материала", т. е. от эвенк. П-Т, Е, Н пинка `булавка`, сюда же нан. пūмкэ то же (ТМС 2: 38)» [там же].
Далее А. Е. Аникин стремится уточнить, «связь несомненна, но речь идет о заимств. из рус. в т-маньчж. (не наоборот). Рус. пинка° < праславянское * pinъka (дериват с суф. ъka от * pinati, далее к * peti `натягивать, напрягать`, ср. рус. запинка и проч., Ан. ИТИТМЯ 1988: 119). [досиб.]» [там же]. Важное уточнение о направлении заимствования прочитывается в употребленном знаке <. Как указывает автор словаря в предисловии, «когда лексическая зона содержит немного материала и отношение между рассматриваемым словом и его этимоном не нуждается в оговорках, знак // может заменяться на знак < , указывающий на направление заимствования» [1, с. 12], что и наблюдаем в нашем случае. Таким образом, А. Е. Аникин не сомневается, что сибирская лексема пинка берет начало в праславянском pinъka .
Ответ на вопрос, откуда же появилась в Сибири пинка , кроется в помете «досиб.», которое указывает на «досибирское» происхождение рассматриваемого слова. «Досибирский» — «т. е. занесенный в Сибирь с территорий к западу от нее» [1, с. 11]. Согласно А. Е. Аникину, слово пинка/пимка представляет собой заимствование «из уральских и алтайских языков, которые попали в русские говоры, локализованные к западу от Сибири, и были занесены предками русских сибирских старожилов на восток» [1, с. 10].
Как видим, однозначного ответа на вопрос о происхождении и реконструкции путей-дорог этого слова нет.
Вариант происхождения слова пинка/пимка Байкальского региона как заимствования из английского приемлем лишь отчасти, в формальном плане. На наш взгляд, второй вариант, определяющий его как заимствование, пришедшее к нам из старожильческих говоров, наиболее точно отражает происхождение слова, как и указание на общеславянский источник. Примерная схема появления регионализма пинка/пимка выглядит так: праславянский ^ тунгусо-маньчжурский (эвенкийский) ^ старожильческие говоры ^ региональный язык.
Данная схема, безусловно, ждет своего подтверждения. Кстати, результаты опроса можно посчитать одним из аргументов в пользу данной гипотезы, например в Иркутской области как наиболее частотные районы распространения этого слова являются Приангарье, север Иркутской области, а эти места известны как места проживания эвенков. В энциклопедическом этнографо-историческом издании «Буряты» указано, что «еще в начале ХIХ века вокруг Байкала обитало довольно значительное количество эвенков, которые назывались байкальскими тунгусами. Они занимали таежные места по берегам Лены и Ангары, обитали в Саянах, недалеко от Иркутска и Верхнеудинска, по современному административному делению — в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском районах Республики Бурятия и далее в Читинской области. Об этом подробно пишет академик А. Шифнер в предисловии к тунгусской грамматике А. Кастрена» [6, с. 228].
Таким образом, предложенная А. Е. Аникиным реконструкция этимологических связей слова пинка/пимка объясняет, почему оно встречается в говорах Приамурья, уральских говорах и проявляет избирательность по ареалу употребления в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.
Итак, для полного описания региолекта, безусловно, необходимо принимать во внимание все факторы, влияющие на его формирование. При этом следует отметить особую роль заимствований в процессе становления регионального варианта русского языка.
Обращение к этимологии слова, реконструкция «дорожной карты» его появления в языке региона позволяют выявить межъязыковые связи, найти причины, движущие механизмы как лингвистического, так и экстралингвистического характера.
Список литературы К происхождению некоторых заимствований в региональном языке (на примере регионализма пинка/пимка)
- Аникин А. Е. Этимологический словарь заимствований в русских диалектах Сибири. Пробный выпуск. М., Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1995. 89 с.
- Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Новосибирск: Наука, 2000. 768 с.
- Англо-русский словарь / под ред. О. С. Ахмановой, Е. А. Уилсон. М. Изд. 25-е. М.: Русский язык, 1975. 640 с.
- Беликов В. И. Сравнение Петербурга с Москвой и другие соображения по социальной лексикографии // Русский язык сегодня: сб. ст. Вып. 3. Проблемы современной лексикографии. М.: ИРЯ РАН, 2004. С. 23–38.
- Бородина М. А. Диалекты или региональные языки // Вопросы языкознания. 1982. № 5. С. 29–38.
- Буряты / отв. ред. Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская. М.: Наука, 633 с.
- Герд А. С. Несколько замечаний касательно понятия «диалект» // Русский язык сегодня: сб. ст. М.: Азбуковник, 2001. Вып. 1. С. 45–52.
- Герд А. С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. 2-е изд., исправл. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 457 с.
- Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 736 с.
- Егодурова В. М. Русский язык в Байкальском регионе: лексико-семантический аспект: монография. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2018. 124 с.
- Зварыкина И. С. Способы номинации регионализмов Астраханского края // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2014. № 2(27). С. 213-219.
- Кадоло Т. А. Региональная лексика как проявление поликультурности // Язык и культура. 2011. № 2(14). С. 22–28.
- Майоров А. П., Степанова И. Ж., Зырянова Е. В. Русская разговорная речь Бурятии: лингворегионоведческий аспект: монография. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2018. 366 с.
- Оглезнева Е. А. Дальневосточный региолект русского языка: особенности формирования // Русский язык в научном освещении. 2008. № 2(16). С. 119–136.
- Оглезнева Е. А. Дальневосточный региолект русского языка как региональный вариант русского национального языка // Слово: фольклорно-диалектологический альманах. Материалы научных экспедиций. Благовещенск, 2013. Вып. 10. С. 27–37.
- Оглезнева Е. А. К вопросу о границах дальневосточного региолекта // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. Вып. 10. С. 65–68.
- Словарь говоров старообрядцев (семейских) / под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск: Изд-во СО РАН: Научно-издательский ОИГГМ, 1999. 539 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: А ТЕМП, 2010. 874 с.
- Трубинский В. И. Современные русские региолекты: приметы становления // Псковские говоры и их окружение: межвуз. сб. науч. тр. Псков, 1991. С.156–162.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 (Муза — Сят) / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 3-е изд., стер. СПб.: Терра — Азбука, 1996. 832 с.
- Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940. URL: http://www.ushakovdictionary.ru. (дата обращения: 18.03.2020).