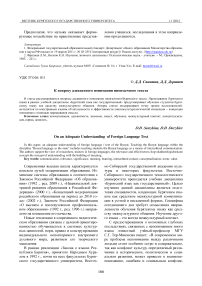К вопросу адекватного понимания иноязычного текста
Автор: Санжина Дарима Дабаевна, Доржиев Дашинима Доржиевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Проблемы двуязычия и этнокультурного образования
Статья в выпуске: 1.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы адекватного понимания иноязычного/бурятского текста. Преподавание бурятского языка в рамках учебной дисциплины «Бурятский язык как государственный» предусматривает обучение студентов бурятскому языку как средству межкультурного общения. Авторы статьи поддерживают точку зрения исследователей-методистов по иностранным языкам об актуальности и эффективности лингвокультурологической концепции - концепции понимания с помощью наращивания смысла.
Коммуникация, адекватность, значение, смысл, обучение, межкультурный контакт, концептуализация, норма, ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/148180564
IDR: 148180564 | УДК: 37.016:
Текст научной статьи К вопросу адекватного понимания иноязычного текста
Современная высшая школа характеризуется поиском путей модернизации образования. Изменение системы образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (1992 ., ред. 2009 г.), «Национальной доктриной развития образования в Российской Федерации» (2000 г.), «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года» (2002 г.), Законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1992 г., ред. 1996 г.) направлено на повышение его качества.
Новые тенденции в современном педагогическом образовании связаны с целевой ориентированностью обучающегося в системах культурных ценностей, норм, правил и конструирования индивидуального неповторимого внутреннего духовного мира, развитием его творческого мышления.
В рамках реализации «Закона о языках Республики Бурятия», принятого Народным Хуралом в 1992 г., почти на всех факультетах Бурятского государственного университета, Восточ- но-Сибирской государственной академии культуры и некоторых факультетах ВосточноСибирского государственного технологического университета преподается учебная дисциплина «Бурятский язык как государственный». Целью изучения данной дисциплины является подготовка специалистов, владеющих бурятским языком как средством межкультурной коммуникации в устной и письменной формах. Специфика сегодняшнего дня требует осмысления направленности обучения бурятскому языку как средству межкультурного общения. Изучение другого языка – это всегда межкультурный контакт.
С предостережением о возможных глубоких последствиях, связанных с непониманием иного языка известный учёный-профессор МГУ С.Г. Тер-Минасова пишет: «В современном мире проблема непонимания между различными людьми стоит особенно остро и содержательно, так как конфликт культур, определяемый различиями в историческом, политическом и социальном развитии, может привести к взаимоне-пониманию, ошибкам и социальным конфлик- там» [3, с. 45]. Это определяет приоритет межкультурного аспекта обучения как иностранным языкам, так и в нашем случае бурятскому языку, и понимание другой культуры, которая представляет научный интерес как культурологическая, психолого-педагогическая, лингводидактическая и методическая проблема.
Современным и эффективным представляется личностно-ориентированный подход в обучении, который предполагает обращённость в процессе межкультурного обучения прежде всего к личности обучаемого, его предварительному знанию и собственному социокультурному опыту. Основной целью обучения иному языку как средству межкультурного общения становится понимание своей и чужой культуры, переход от обсуждения отдельных фактов к осознанию способов влияния культурных различий на процесс коммуникации.
Лингводидактическая значимость межкультурной коммуникации заключается в том, что она открывает возможности познания и понимания другой культуры: в межкультурной коммуникации происходит взаимодействие представителей различных культур, используется иной языковой код, появляются иные установки, формы поведения и ценностные ориентации, воспринимаемые коммуникантами как отличающиеся от собственных.
В современной лингвистике наметилась активизация интереса к проблеме смысла и понимания. Это, очевидно, связано с тем, что в отечественной и зарубежной литературе оба явления описаны недостаточно полно, и понятие «смысл» разработано не более, чем понятие «понимание». Что касается лингвистических учений, то в них нельзя не отметить традиционную узость лингвосемантического подхода. Исследование явлений, связанных с пониманием и смыслом в практике преподавания бурятского языка для начинающих привело нас, вслед за исследователями-методистами по иностранным языкам, к мысли решать данный круг проблем в рамках лингвокультурологической концепции, которую можно назвать концепцией понимания с помощью наращивания смысла.
Типологическую характеристику контекста иноязычной культуры можно определить следующим образом: а) концептуализация реальной действительности, ядром которой выступает языковая картина мира, отражающая специфику восприятия и видения мира в различных лингвокультурных общностях; б) совокупность ценностных ориентаций, используемых для выражения намерений, установок, устремлений и национальных приоритетов, которые формируют и активизируют необходимые способы их языкового выражения; в) культурологические импликации как комплекс понятий, имеющий существенное значение для понимания специфики языковой картины мира; г) значения и смыслы, которые являются интегральными началом знания [2, с. 94-95].
Сущность понимания представляет собой анализ различных контекстов, а сам процесс понимания предполагает установление смысловых связей и отношений между элементами. Следовательно, модель понимания есть когнитивная модель реального мира, а сам процесс понимания как познавательная деятельность включает различные действия: восприятие, декодирование значения и смысла, их интерпретацию. Посредством иностранного, в нашем случае бурятского языка как инструмента познания формируется качественно новое релевантное знание.
Понимание как процесс познания контекста иноязычной культуры достигается через информативные, интерпретационные, компаративные и рефлексивные стратегии, формирование которых происходит посредством вновь изучаемого языка. Информативные стратегии включают восприятие, осмысление и адекватную интерпретацию культурно значимой информации. Интерпретационные стратегии предполагают толкование и комментирование культурно значимой информации. Компаративные стратегии основаны на сравнении фактов и явлений иноязычной и собственной культуры. Рефлексивные стратегии представляют собой отражение языковой и концептуальной картины мира и сознание реципиента, осознание себя в контексте другой культуры, готовность вступить в контакт, формирование толерантности по отношению к представителям другой лингвокультурной общности.
Модель понимания контекста иноязычной культуры – это личностно-ориентированный процесс когнитивной деятельности, включающей восприятие, интерпретацию и оценку культурно значимой информации и опосредованной аудио-, видео- и текстовым материалом. Изучение бурятского языка как средства межкультурного общения становится возможным с учетом следующих принципов: ориентации в контексте иноязычной культуры и выявление трудностей понимания, контрастивности, когнитивности.
Ориентация в контексте иноязычной культуры и выявление трудностей понимания связаны со своеобразием культур. Это обусловлено такими факторами, как: перемещение и ориента- ция в пространстве; преодоление препятствий; реальность ожиданий; личные проблемы; социальные связи; конфликт ценностей родной и иноязычной культур; отсутствие навыков социального общения в данной культуре.
Контрастивность как сопоставительное изучение культур включает механизм культурных универсалий и рассмотрение параметров в эмпирическом (внутренне обоснованном) контексте. Понимание характеризует отношение человека к миру культуры, и оно многообразно по формам. Там, где присутствует «чужое», отличное от собственной культуры, всегда имеет место сравнение как сопоставление, которое не должно превратиться в противопоставление. В этом смысле сравнение выступает в качестве метода, ведущего к достижению понимания. Преимущество сравнения как одного из способов достижения понимания состоит в фиксации различий и сходств культурных фактов и явлений.
Когнитивность заключается в умении не просто лингвистически декодировать услышанный текст, но и оперативно подключить знания и представления о мире иной речевой общности, а также умении оперировать образами, представленными в сознании, аналогичными тем, которыми располагает представитель другой культуры. При порождении текста выбор языковой формы диктуется коммуникативным требованием выразить определённый смысл, причём выразить его адекватно ситуации общения, понятно и доступно пониманию собеседника читателя. При этом в процессе порождения высказывания можно выделить следующие стадии: нахождение класса соответствующих единиц, выражающих данный смысл; выбор среди членов класса лексем, максимально удовлетворяющих стилистическим требованиям (определяемым ситуацией общения, культурным уровнем коммуникантов, а также индивидуальным опытом говорящего в сходных речевых ситуациях); построение слов, словосочетаний и, наконец, окончательное оформление высказывания – подборка фразы из слов и словосочетаний в соответствии с определёнными синтаксическими правилами. Кроме того, если речь идёт о звучащей, а не письменной речи, к вышеперечисленным требованиям добавляются и требования правильного звукового и интонационного оформления.
Очевидно, что обучающийся другому языку в процессе порождения высказывания на неродном для него языке может допускать ошибку на любой стадии. Так, он может выбрать неправильную лексическую форму, неадекватную коммуникативной интенции. При этом непра- вильная форма может быть выбрана потому, что а) он не знает, какая из набора лексических единиц выражающих один и тот же смысл, наиболее частотна и стандартна для данной речевой ситуации; б) он плохо или совсем не чувствует стилевую принадлежность слова, выбирая подчас даже нецензурные формы – в полной уверенности, что используются стилистически нейтральные общепринятые языковые единицы; в) обучающийся путает близкие по фонетическому оформлению, но абсолютно не связанные по смыслу слова. Далее могут быть допущены ошибки на стадии построения словосочетания и предложения – выбрано неверное глагольное управление, вид и время глаголов, порядок слов и др.
При совпадении структур родного изучаемого языка проблем обычно не возникает, такие формы легко запоминаются. Не совпадающие структуры запоминаются плохо, в этих случаях лучше усваиваются конструкции с нарушениями, такие формы запоминаются по контрасту (в противовес совпадающим структурам, которые усваиваются по аналогии, по «повтору»). Хуже всего обстоит дело в случаях, когда есть не полное, а частичное несовпадение структур – как показывает опыт, подобные конструкции плохо откладываются в памяти.
Непременным условием реализации любого коммуникативного акта должно быть, по мнению О.С. Ахматовой, «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [1, с. 498]. Изучение культурного компонента слов является важным условием успешного овладения языком, вместе с тем оно входит в более широкий круг культурно-исторических значений соответствующей социальной действительности, усвоение которой есть важное условие использования языка как средства общения, адекватного понимания текста иноязычной культуры. К ключевым понятиям, имеющим отношение непосредственно к переводческой деятельности, относится понятие «коммуникативная установка». В зависимости от цели коммуникативной установки речевого акта определяется его языковая функция. В лингвистике, как известно, выделяется шесть языковых функций: 1) денотативная, связанная с описанием предметной ситуации; 2) экспрессивная, выражающая отношение говорящего к тексту;3) волеизъявительная, передающая предписания и команды;4) металингвистическая, характеризуемая установкой на используемый в коммуникации язык; 5) контактоустановитель-ная, или фатическая, связанная с поддержанием контакта между участниками коммуникации;
-
6) поэтическая, при которой акцент делается на языковой форме.
Для практики перевода из перечисленных языковых функций первостепенное значение имеет денотативная функция, связанная с передачей информации о внеязыковой действительности. В языке отражение внешнего мира осуществляется при помощи семантического отношения между означающим, или знаком, и означаемым – денотатом. Так, если взять слово гэр «дом», его звуковая и графическая интерпретация является знаком понятия гэр «дом». Понятие служит обобщающим образом предмета в нашем сознании, отражающим его основные признаки. Знак гэр «дом» и понятие гэр «дом» связаны друг с другом семантическим отношением. В рамках отношения знак гэр «дом» получает своё языковое значение.
В качестве знаковой системы человеческий язык имеет две формы существования: как совокупность знаков и правил их комбинирования и как вид деятельности, которая заключается в применении системы языковых знаков для целей коммуникации. Эти формы существования языка соответствуют противопоставлению языка и речи. В речи языковые значения актуализируются, т.е. соотносятся с конкретными предметами. Так, в данном примере значение слова гэр «дом» при его употреблении в тексте соотносится с конкретным видом помещения. Подобно слову, предложение также является знаком, но знаком особого рода, который отражает не отдельные понятия, а типичные предметные ситуации. Среди них ситуации, характеризуемые отношением деятеля к действию, предмета к действию, обладателя к обладаемому предмету, предмета к его свойствам и т.д.
Обобщённые типы предметных ситуаций в теории синтаксиса именуются как семантические предикаты. Предикат и связанные с ним субъект, объект и локатив образуют семантическую структуру предложения. На языковом синтаксическом уровне субъект, предикат, объект и локатив соотносятся с членом предложения: подлежащим, сказуемым, дополнением и обстоятельством. Аналогично слову предложение в системе языка выступает как абстрактная модель, а в речи реализуется в виде конкретного высказывания. В теории перевода важное место занимают такие понятия, как значение и смысл. В научной литературе, как известно, эти понятия истолковываются по-разному. Наиболее оптимальной и широко распространённой в современном языкознании представляется точка зрения А. Д. Швейцера, согласно которой «смысл есть актуализированное в речи значение языко- вой единицы» [5, с. 114]. Так, слово гэр в бурятском языке имеет несколько значений, т.е. соотносится с рядом понятий. Это 1. юрта, дом, помещение, учреждение, логово и т.д. Семантический компонент (сема), обозначающий составную часть значения данной языковой единицы, состоит из набора, или пучка, сем. В конкретной ситуации общения используется одно из значений, или сем, слова «гэр», которое и становится его смыслом. Переводчик, который всегда имеет дело с конкретным текстом, оперирует на уровне смысла, а не значения. В другом языке значение аналогичной языковой единицы может быть иным (объём значений русского слова «дом» иной). Что касается смысла, то он не зависит от различий между языками и может быть передан другими языковыми средствами и значениями. Так один из семантических компонентов слова гэр – хутагын гэр букв. «ножа дом» на русский язык передаётся как ножны. Оба примера, и бурятский и русский, передают один и тот же конкретный смысл, хотя каждый из них выражает этот смысл не только с помощью разных слов, но и с помощью разных значений. Базовым понятием переводческой теории является понятие эквивалентности, прежде всего это семантическая эквивалентность, то есть соотнесенность с одной и той же предметной ситуацией. Графически эта мысль представляется следующим образом: Текст Т1 идентичен тексту Т2 благодаря тому, что они оба соотносятся с одной и той же предметной ситуацией ПС. Эта соотнесённость делает их семантическими эквивалентами. В переводоведении различаются два вида семантической эквивалентности – компонентный и денотативный [4, с. 118, 123]. При переводе, как известно, имеем дело со смыслом, т.е. одним из семантических компонентов языковой единицы, поэтому семантическая эквивалентность достигается благодаря наличию в текстах Т1 и Т2 одних и тех же сем. В этом случае тексты находятся в отношении компонентой семантической эквивалентности.
Второй вид семантической эквивалентности – денотативный – связан с явлением языковой избирательности. Суть её состоит в том, что один и тот же предмет или предметная ситуация могут быть описаны с разных сторон посредством разных признаков. Например: Зураг ханада үлг ɵɵ т ɵ й «Картина на стене висит» (предикат состояния), Зураг хананда үлгэбэ «Картину повесили на стену» (предикат действия) и Би зураг ханада харанаб «Я вижу картину на стене» (предикат восприятия).
Разные семантические предикаты перекрещиваются и являются взаимозаменяемыми благодаря тому, что описывают одну и ту же ситуацию. При межъязыковом общении эта закономерность проявляется ещё более отчетливо. Так, бурятскому слову барюул в русском языке соответствует слово «ручка», т.е. один и тот же предмет именуется по разным признакам: в бурятском языке – по возможности за что-то держаться бариха, в русском языке – по признаку возможности схватить нечто руками. Кроме того, в бурятском языке ручки котла имеют специальное название тогоной шэхэн «ушки котла», по признаку сходства с ушами. Другой пример: в бурятском языке предикативный глагол в высказывании не содержит семантического компонента, обозначающего принадлежность к мужскому или женскому роду. При переводе на русский язык, в котором этот компонент имеется, указанный признак восполняется из ситуации или контекста. Например: «Би энэ ном уншаһанби» и «Я читал (читала) эту книгу».
С точки зрения современной теории перевода актуальным представляется общую категорию эквивалентности дополнить понятием функциональной эквивалентности, основанной на передаче различных языковых функций. И только с учётом этого различия возможно говорить об эквивалентности денотативной, экспрессивной, волеизъявительной, фатической или контакто- установительной, металингвистической и поэтической [4, с. 66-68].
Иначе говоря, переводчик переводит не просто язык текста (т.е. язык, который накладывается на фактуальное, предметное содержание) и не просто текст как фактуальное содержание (т.е. содержание, лишённое внутренней оформ-ленности), а переводит язык, который является результатом информационной переработки фак-туального содержания текста, является выражением многократно осмысленного содержания. То есть переводчик переводит не только, «о чём» говорится в переводимом произведении (это очень простой и неадекватный вид перевода), а «что» говорится и «как» это выражается в самом тексте и языке текста. «Что» и «как» – за этими словами стоит смысл текста, т.е. информационное содержание произведения, которое складывается из функционального («что») и формального, также смыслового («как») содержания. «Что» и «как» образуют форму факту-ального содержания произведения, которая также содержательна и представляет собой информационную форму текста. В этой форме «что» – это функциональное содержание (конкретное коммуникативное содержание), существующее в виде «речевого жанра», а «как» – информационная структура этого функционального содержания, определяющая языковой стиль произведения.