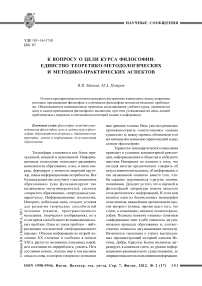К вопросу о цели курса философии: единство теоретико-методологических и методико-практических аспектов
Автор: Минеев Валерий Валерьевич, Петров Михаил Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка раскрыть внутреннюю взаимосвязь между вопросами методики преподавания философии и ключевыми философско-методологическими проблемами. Обосновываются инновационные принципы моделирования учебного курса, проясняются цели и задачи преподавания философских дисциплин, при этом устанавливается связь данной проблематики с вопросом о соотношении категорий знания и информации.
Философия, методика преподавания философии, цель и задачи курса философии, образовательный процесс, дидактические принципы, знание и информация, дегуманизация образования
Короткий адрес: https://sciup.org/14974512
IDR: 14974512 | УДК: 01+16+37.01
Текст научной статьи К вопросу о цели курса философии: единство теоретико-методологических и методико-практических аспектов
Техносфера становится все более причудливой, мощной и агрессивной. Информационные технологии позволяют расширить возможности образования, а оно, в свою очередь, формирует у личности широкий кругозор, новые информационные потребности. Все большее развитие получают «дистанционное образование» (уже функционируют так называемые мегауниверситеты), системы «открытого образования», «виртуальные университеты». Информационные технологии, Интернет, мобильная связь создают условия для развития творческих способностей человека (памяти, пространственного мышления, творческого воображения), но в то же время способствуют возникновению новых проблем. Одна из таких проблем – нейтрализация последствий «информационного взрыва». Объемы информации во второй половине XX столетия и особенно в начале XXI в. растут по экспоненте, и индивид, порой, не в состоянии их переработать, усвоить. Не в состоянии понять, познать мир в том высоком смысле слова, в котором говорили о познании еще древние эллины. Ведь уже они решились противопоставить «многознанию» «знание сущности» и, между прочим, обозначили этот когнитивный и жизненно-практический идеал словом «философия».
Торжество технократического мышления приводит в условиях компьютерной революции, информационного общества и победного шествия Интернета по планете к тому, что сегодня многие предпочитают говорить об искусственном интеллекте, об информации, о так называемой «памяти» вместо того, чтобы серьезно задумываться о разуме, знании, понимании. Доходит до того, что в научной и философской литературе знание зачастую отождествляется с информацией. В этом нам видится одна из бесчисленных метаморфоз позитивизма, важнейшим противоядием против которого (точнее, против всего того, что с ним, к сожалению, связано) остается философия. Подмена понятия «знание» понятием «информация» таит в себе опасность дегуманизации процесса образования и, соответственно, опасность дегуманизации личности. Намечается тенденция к утрате выстраданных предшествующей историей идеалов Истины, Добра, Красоты. Бытие индивида деградирует, в конечном счете, до уровня информационно-рационального существования, до операционального использования информации.
Что же остается человеческого в подобном «субъекте»? Вопрос далеко не праздный. Проникновение в диалектику категорий информации и знания (способность к которому составляет неотъемлемое свойство человеческой природы) приобретает исключительно важное мировоззренческое и методологическое значение.
В порядке философского осмысления соотношения понятий «информация» и «знание» небесполезным представляется анализ когнитивной, кибернетической и ряда других концепций информации [1, с. 269–282; 5, с. 15]. Многообразие определений информации обусловлено необычайной многомерностью данного феномена. Общим для когнитивной и кибернетической концепций информации является трактовка ее как сообщения, передаваемого по каналам связи в такой специфической области бытия, как социум. При этом под сообщением понимается кодированный элемент события, зафиксированный источником информации и выраженный с помощью последовательности условных физических символов, образующих некоторую упорядоченную совокупность. С точки зрения сторонников когнитивной концепции, информация есть феномен, присущий исключительно социуму, человеческому сообществу. Язык при этом в своих многообразных конструкциях выступает естественной (исторически сложившейся в процессе антропосоциогенеза) формой хранения и передачи (в процессе коммуникации) информации. В свою очередь традиционная концепция познания напрямую связывает знание как результат (итог) познавательного процесса с его воплощением в системе понятий, присущей языку (знание как целостная, систематизированная совокупность понятий, система высказываний и т. п.). Это означает, что трактуемое таким образом изреченное знание (зафиксированное в устной или письменной форме) – упорядоченная система знаков, имеющих инвариантное, общезначимое для всех участников диалога значение – представляет собой уже несколько иную, чем неизреченное знание, информационную реальность. Именно это обстоятельство дает когнитивистам основание для интерпретации информации в терминах так называемой превращенной формы знания (мы в данной статье не имеем возможности углубляться в дискуссию о ее концептуальном статусе). Знание – итог долгой и многотрудной познавательной деятельности, оно личностно. Социальная же информация выступает как достояние общественное, которое может быть воспринято, передано, оценено только в обществе. Если согласиться с таким способом дифференциации знания и информации, то знание, очевидно, можно передавать от одного субъекта к другому по каналам коммуникативных связей. Тогда информацию можно считать превращенной формой знания, а знание – превращенной формой информации.
Наиболее содержательное воплощение информация получает в языке как культурноисторическом продукте. Какой-либо иной формой объективации знания человечество, очевидно, не обладает. Поэтому процесс познания (знание) очень легко, но неправомерно редуцируется к упорядоченному накоплению информации; приращение информации квалифицируется как приращение знания. При этом представители кибернетического подхода, признавая социальный статус информации, функционирующей в обществе, почему-то фактически отказывают в социальной природе самому субъекту познания, связывая знание с состоянием информированности общества, но не с состоянием сознания.
Действительно, совокупность многообразных форм объективации процессов познания порождает своеобразный универсум социальной информации. Это – некий мир объективированного знания, в котором накопление информации равносильно прогрессу познания, но только без учета роли личности. Субъект познания, дескать, просто остается «за скобками». И все бы было ничего, если бы не одно обстоятельство, нарушающее спокойное течение позитивистски настроенной мысли: знание (процесс познания) по самой своей сути некумулятивно, неаддитивно. Рост знания не совпадает с приростом информации. В этой связи следует отметить вполне справедливую критику попперианской концепции «третьего мира», поскольку мир объективного знания не может функционировать самостоятельно.
Необходимо отличать знание от его материального носителя (текста в данном случае). Информация нуждается не просто в машинной дешифровке, но в понимании, которое всегда личностно, неповторимо. Можно заключить, что знание в объективированной форме, то есть определенная система логически организованных высказываний, предложений, выраженных в языке, зафиксированных в текстах и функционирующих в обществе как продукт человеческой деятельности, есть не что иное, как информация. Однако коммуникация не сводится только к передаче, а информирование – к аккумуляции информации. Для осуществления этих процессов необходима креативная способность получателя, дающая ему возможность творческого соучастия в коммуникационных процессах. Допустим, с позиции отправителя информация представляет собой зафиксированное сообщение о событии, а с позиции получателя – управляющий сигнал, побуждающий к определенным действиям. Но возможна и ситуация, когда речь идет о сообщении, демонстрирующем образец того, как следует действовать в некоторой ситуации. В известном смысле, формулировка физического закона и инструкция для проведения того или иного эксперимента «устроены» одинаково, они прямо или косвенно задают способ действия в определенных ситуациях. При этом знание о наличии той или иной ситуации также передается в виде информации. К информации такого типа относится конкретный знак уличного движения. Он обозначает ту или иную ситуацию, предупреждает о ней. Информацию другого типа содержит инструкция о применении знаков уличного движения. В инструкции описывается способ действия в ответ на тот или иной знак. Иными словами, к информации первого типа относится всякого рода статистическая, справочная информация, а к информации второго типа – содержательная. В первом случае информация выступает в качестве информационного сигнала, а во втором – в виде особой знаковой формы, отчужденной от непосредственного носителя и тем самым доступной только тому, кто умеет извлекать смысл из информации.
Организация информации может быть представлена в форме так называемых «паттернов», «инфов», «информогенов», «информа-тивов» и прочих элементов информационного процесса (информационной реальности), позво- ляющих оценивать информацию и с количественной, и с качественной стороны. На разных уровнях познавательного процесса информация организуется и функционирует по-разному. Не следует упускать из виду значение психологических механизмов закрепления информации (памяти, внимания, установок, эмоций). Наконец, необходимо помнить и о том, что психика не сводится к сознанию, сознание не сводится к мышлению, а само мышление составляет многоуровневую (причем, далеко не познанную) целостность и не исчерпывается процессами оперирования знаками. Диалектика субъективного и интерсубъективного также чрезвычайно сложна. Ведь информация потому и есть общественное достояние, что может быть воспринята и оценена только в обществе. Для пользователя значимы лишь те качества информационного продукта, которые актуализируют, активизируют некоторое личностное знание. Поэтому, хотя знание всегда информативно, не всякая информация является знанием.
В информационно-когнитивном процессе можно различить личностное знание, объективированное знание, а также некоторый другой материал, прошедший через сознание, но знанием не ставший. В познавательном процессе, трактуемом как процесс «раскрытия» информации, по-видимому, правомерно дифференцировать два плана. Первый план – это схватывание пустой еще формы подлежащего познанию феномена (информация как сообщение, как некоторая совокупность знаков, их значений); второй план – это выявление функциональной связи между знаками, между словами, усмотрение их «смысла» и, стало быть, понимание, при условии которого только и позволительно говорить о знании. При этом, конечно же, следует иметь в виду, что без наличия той или иной формы так называемого «предзнания» (или «тезауруса» знания) ни сам факт фиксации информации, ни последующий процесс ее осмысления (что, собственно, и представляет собой процесс познания) невозможны. Таким образом, на наш взгляд, знание не может быть буквально «превращено» в информацию, но может быть лишь выражено посредством некоторой символической формы, посредством системы знаков, их значений. Знание относится и к личности, и к обществу, поскольку может функционировать как феномен сознания только в социуме. Социальная же информация принадлежит только обществу и выполняет посреднические функции в межличностной коммуникации. Такого рода информация, циркулирующая в социальных системах, в процессах социального управления, в структурах, сложившихся на протяжении всей истории человеческого общества, может быть интерпретирована как отраженное в обществе разнообразие природных и социальных явлений и охарактеризована в терминах достоверности, доказательности, полноты и т. п.
В свете рассмотренной выше дискуссии о соотношении знания и информации становится очевидным важное предназначение философии в жизни человека и общества. Именно искренняя мировоззренческая и методологическая рефлексия над основаниями познания, предполагающая не просто поверхностную информированность о тех или иных событиях, фактах, теориях, но сопереживание, проникновение в духовный мир автора этих теорий, раскрытие иерархии вложенных в послание смыслов, делает человека (педагога, студента, исследователя) способным к сопротивлению [2, с. 142–158]. К сопротивлению тенденциям дегуманизации науки и образования.
Между научным познанием, в процессе которого ранее не известные явления окружающей действительности становятся интеллектуальным достоянием человечества, и учебной деятельностью, целью которой является овладение знаниями, уже находящимися в распоряжении людей, имеется немало различий. Различия касаются и непосредственной цели познавательного процесса, и его формы, и критерия истины. Однако диалектика этих двух видов, точнее, фаз познания сложна и необычайно многогранна. Порой парадоксальна. Спектр научных исследований не только определяет направления развития системы образования, но и сам во многом предопределяется ее приоритетами. Вспомним историю отечественной Академии наук, работа которой долгое время была подчинена задачам народного просвещения. Сравним объем физических знаний, благоприобретенных физиком в рамках образовательного процесса, с количеством информации, получаемой в ходе профессиональной деятельности. Сравнение не в пользу последнего. Это говорит о том, что реальные механизмы прироста научного знания далеки от популярных эпистемологических моделей.
Что касается взаимоотношений между сферой собственно философской мысли и сферой философского образования, то здесь взаимопроникновение названных фаз познания является еще более глубоким, более интимным, чем в случае конкретных наук. Традиция педагогического прочтения самой сути философского предприятия, уходящая корнями в эпоху Сократа и в универсум средневековой схоластики, не умерла и находит выражение, в частности, в «наставительной философии» Р. Рорти [7, с. 276], в коммуникативи-стской концепции Ю. Хабермаса [9, с. 256]. На наш взгляд, способ приобщения к философской мысли и, соответственно, способ ее выражения (нацеленный, прежде всего, на передачу ее Другому, ученику-собеседнику) оказывает существенное воздействие на содержание последующего мировоззренческого и методологического поиска. Поэтому казалось бы элементарные вопросы методики преподавания философии легко трансформируются в коллизии философско-методологического порядка. Логично предположить, что, например, оппозиция между гераклитовским и пар-менидовским стилями мышления, между выражением противоречивой действительности посредством смыслообразов и выражением той же самой действительности посредством отвлеченных понятий конституировалась, помимо всего прочего, как проблема метода обучения. Тотальная дидактическая нагру-женность теоретических построений Платона и Аристотеля очевидна. Уместно вспомнить и то, как отзывались о полученном ими образовании Бэкон и Декарт, и болезненную реакцию столпов немецкой культуры на «школьную философию Вольфа». Тем не менее, философские аспекты преподавания философии, насколько нам известно, до сих пор не стали объектом пристального внимания.
Такие аспекты, не совпадающие ни с содержанием учебного предмета, ни с вопросами методики преподавания обнаруживаются, как правило, в критических точках образовательного процесса. Какова цель институционализации философского образования (в обществе, в университете)? Как складываются и как обосновываются стандарты философской образованности? Каким образом осуществляется отбор учебного материала? Развитию каких именно когнитивных способностей и воспитанию каких именно интеллектуальных, профессиональных, нравственных качеств призвано содействовать внедрение философских курсов?
Если вопросы о цели физического познания, о цели преподавания естественнонаучных дисциплин остаются за рамками предметного поля физики, то в случае философских дисциплин дело обстоит иначе. Очевидно, именно с моментом самоприменимости философского знания, с предельным характером его оснований и связаны специфические методологические трудности. Так, обычно в содержание предмета включают типичные факты, общепризнанные основоположения, практически значимые вопросы из области соответствующей науки. Однако единство философского знания (в отличие от конкретно-научного) складывается скорее на основе общности проблем, чем на основе сходства в подходах к их решению. Отсюда дилемма: либо последовательно рассматривать проблемы с позиций одного произвольно избранного подхода, либо довольствоваться поверхностным перечислением имеющихся точек зрения. С серьезными трудностями сталкиваются педагоги при отборе тематики, включаемой в содержание курсов. Как известно, отбор учебного материала подчиняется принципам, нередко находящимся в конфликте: с одной стороны, принципу соответствия содержания курса состоянию соответствующей науки; с другой – принципу доступности материала для учащихся. Именно современные, наиболее значимые концепции, как правило, оказываются наименее доступными и остаются за бортом. Разные научно-философские направления выдвигают на первый план разные вопросы. Одни сводят философию к теории познания, другие – к теории языка, третьи считают, что внимания заслуживают лишь этические коллизии. Авторы же учебных программ исходят, прежде всего, из сложившейся традиции. Но такой подход устроил бы разве что античных скептиков и по понятным причинам не может считаться методологически корректным.
Как показывает практический опыт, наиболее плодотворными принципами моделирования нашего учебного предмета являются герменевтический круг и поступательная рефлексия над разнообразными предпосылками философского рассуждения [4, с. 12–55]. Герменевтическим кругом называется циклическая зависимость между пониманием целого и пониманием его частей, а также взаимообусловленность понимания иного и самопонимания. Отношение философии к миру, к истине выражается в соответствующих философских проблемах («Что есть истина?»). И путь к пониманию того, что такое философия (целое) лежит через уяснение содержания ее многочисленных проблем (частей). Однако чтобы понять ту или иную проблему, часть, необходимо иметь представление о целом, о том, что такое философия. То, как философия понимает себя, зависит от того, как она понимает все остальное: истину, время, бытие. Так, если она считает себя наукой о мире в целом, то, выходит, у нее уже есть определенный взгляд и на науку, и на мир, и на целостность. В свою очередь, этот взгляд зависит от того, как философия воспринимает себя: нельзя составить философское понятие о чем-либо, прежде не установив, что же значит «философское». Так вопрос о том, что такое философия, становится центральной проблемой учебного курса.
Попытка ответить на вопрос о том, что такое философия, приводит к дифференциации множества тем: наука, познание, человек, общество... При обращении к каждой из тем проблема сущности философии оказывается сквозной. Раскрыть тему без помощи понятий, лежащих за ее пределами, то есть не нарушив логической последовательности, невозможно. Поэтому целостность и логичность курса обеспечивается не столько очередностью уроков, сколько наличием узлов пересечения между ними, наличием сквозных проблем. Курс приобретает не линейное, а радиально-концентрическое строение. Изучая философию, студент старается углубиться до философских аспектов любого явления, с которым сталкивается в жизни. Обратим внимание на ситуацию, когда подобным явлением оказывается... само изучение философии. В данном случае начинает действовать принцип поступательной рефлексии над предпосылками философского рассуждения, которое обусловлено и особенностями сознания, и особенностями языка, и социальной средой, и культурной традицией, и личным опытом, и законами мышления, и законами самой природы.
Поочередно направляя рефлексию на разнообразные основания философского знания, мы шаг за шагом расширяем горизонты учебного предмета [4, с. 56–96]. При этом постепенно проясняется, доводится до сознания студента цель курса. Она заключается в том, чтобы средствами учебного предмета, с одной стороны, развить интерес к фундаментальному знанию, сформировать устойчивую потребность в философской оценке фактов действительности, повысить мотивацию к занятиям научно-исследовательской и педагогической деятельностью. А с другой – содействовать развитию определенных когнитивных способностей студентов, воспитанию определенных интеллектуальных, профессиональных и нравственных качеств [6, с. 64–195]. По мере расширения диапазона осваиваемых тем артикулируются важнейшие из этих способностей и качеств: способность к целостному видению мира, общества, человека; умение оценивать любые события в глобально-исторической (космопланетарной, цивилизационной, биосферно-экологической) перспективе; ориентация на систему ценностей, принятую научным сообществом, в сочетании с уважительным отношением к людям, ориентирующимся на иные системы ценностей; толерантность и готовность к сотрудничеству (что соответствует духу политических документов, принятых ЮНЕСКО и определяющих назначение философии в современном мире); глубоко осознанная заинтересованность не только в личном успехе, но и в успехе коллектива, в процветании России, в благополучии человечества; патриотизм и чувство ответственности за судьбу страны; интеллектуальная честность и правдивость высказываний; умеренность и воздержанность; бережное отношение к природе, к жизненному пространству и к культурной традиции; готовность оказать сопротивление пропаганде неправильного образа жизни, потребительской гонке, любым процессам, идущим вразрез с принципами ус- тойчивого развития [8, с. 5]. Предлагаемый подход позволяет трансформировать цель овладения философским знанием из внешнего, формального требования к организации учебного процесса во внутренний принцип построения предмета, органично вписать эту цель в структуру курса и таким образом отождествить с предназначением собственно философской мысли в жизни человека и общества. Ведь стремление опереться на внешний авторитет, в конечном счете, противоречит духу научной философии, идет вразрез с ее критическими и интегративными функциями, с целями ее институционализации в обществе и в вузе.
Реализация многократно отрефлектиро-ванной и тщательно обоснованной цели курса (обоснованной не в правительственных документах, а именно в рамках самого курса, по мере развертывания его теоретического содержания) предполагает решение собственно учебных задач, составляющих уже не теоретико-методологический, а методико-практический уровень преподавания философских дисциплин. Структура этих задач достаточно прозрачна. Во-первых, сформировать представление о философии, о ее концептуальном аппарате, проблемах, истории, о современных подходах, уделив при этом внимание таким темам, как бытие, сознание, познание, наука, эволюция картины мира, функционирование и развитие общества, взаимодействие общества и природы, формы духовной культуры. Во-вторых, овладеть разнообразными приемами и навыками критической рефлексии, преодолеть, насколько возможно, собственную зависимость от каких бы то ни было авторитетов и, вместе с тем, стать терпимее к мнению других. В-третьих, овладеть навыками ведения научно-философской дискуссии. В-четвертых, углубить понимание мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в различных областях конкретно-научного, обыденного, педагогического знания, научиться обсуждать проблемы, находящиеся на стыке наук или на стыке различных форм культуры, глубже понять отношение приобретаемой специальности к другим наукам, к другим областям человеческой деятельности. В-пятых, преодолеть утилитарно-прагматический взгляд на сущность науки (или – в зависимости от профиля факультета – на сущность искусства, права, медицины).
Преподавание философских дисциплин, подразумевающее выполнение перечисленных задач, нуждается в серьезном методическом сопровождении. В связи с изменением и особенностей восприятия, и стиля мышления современных студентов («компьютерное мышление», «клиповое мышление», «гипертекстуальность» и т. п.) особенно актуальной становится потребность в совершенствовании способов и средств визуализации научных понятий. Визуализация – представление информации в виде изображения – основана на нашей бессознательной способности мыслить образами. Визуализация дидактически эффективна, поскольку трансформирует изначально не зрительную информацию (структуру понятия «истина», соотношение уровней знания, последовательность исторических эпох) в изображения, работа с которыми способствует усвоению, воспроизводству и преобразованию информации, позволяет исследовать свойства реальных и виртуальных объектов. Так, работа по созданию и внедрению средств визуализации в учебный процесс проводится В.В. Минеевым в стенах Красноярского государственного педагогического университета, а также Красноярского научного центра СО РАН уже в течение двадцати пяти лет (1986 – 2012 гг.). Одним из результатов этой работы стала единая хронологическая таблица «Синергия», представляющая собой широкий (гипертекстовый) комплекс методических средств, которые могут сопровождать в качестве методического аппарата учебное пособие (в печатной или в электронной форме), лекцию, семинар, форму контроля (систему письменных тестовых заданий или устно поставленный экзаменационный вопрос), хрестоматию, программу [3]. Практика показала, что использование данного комплекса вкупе с комплексом корректно сформулированных экзаменационных вопросов и, конечно, с адекватной учебной программой дает положительные результаты.
Таким образом, единство теоретико-методологического и методико-практического уровней моделирования философии как учебного предмета достигается путем последовательной реконструкции цели курса, учебных задач и, наконец, адекватного этим задачам методического аппарата.
Список литературы К вопросу о цели курса философии: единство теоретико-методологических и методико-практических аспектов
- История и философия науки: учеб.-метод. пособие для аспирантов и соискателей/В. А. Устюгов, М. А. Петров, Н. А. Демина [и др.]; отв. ред. В. И. Кудашов. -Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. -386 с.
- Минеев, В. В. Введение в историю и философию науки: учебник для вузов/В. В. Минеев. -2-е изд., испр. и доп. -Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2009. -456 с.
- Минеев, В. В. История и философия науки: Сетевой учебно-методический комплекс/В. В. Минеев. -Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2011. -700 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www. edu.kspu.ru/file.php/291/SUMK/index.html. -Загл. с экрана.
- Минеев, В. В. Учебник-практикум по философии. В 2-х ч. Ч. 1. Постановка философского видения/В. В. Минеев. -Красноярск: Изд-во КГПУ, 1996. -196 с.
- Петров, М. А. Философские проблемы информатики: учеб.-метод. пособие для аспирантов и соискателей/М. А. Петров. -Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2011. -45 с.
- Печчеи, А. Человеческие качества/А. Печчеи. -М.: Прогресс, 1985. -312 с.
- Рорти, Р. Философия и зеркало природы/Р. Рорти. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. -320 с.
- Философия: учеб. программа дисциплины для студентов вуза, обучающихся по направлениям 050100 «Педагогическое образование» бакалавриат.../сост. В.В. Минеев. -Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2011. -32 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.edu.kspu.ru/file.php/15/Uchebnoe_posobie/index.html. -Загл. с экрана.
- Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие/Ю. Хабермас. -СПб.: Наука, 2000. -380 с.