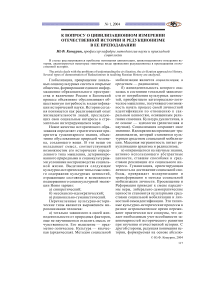К вопросу о цивилизационном измерении отечественной истории и редукционизме в ее преподавании
Автор: Кожурин Ю.Ф.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 1 (34), 2004 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы понимания цивилизации, цивилизационного измерения истории, анализируются некоторые типичные виды проявления редукционизма в преподавании отечественной истории.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135831
IDR: 147135831
Текст научной статьи К вопросу о цивилизационном измерении отечественной истории и редукционизме в ее преподавании
В статье рассматриваются проблемы понимания цивилизации, цивилизационного измерения истории, анализируются некоторые типичные виды проявления редукционизма в преподавании отечественной истории.
The article deals with the problems of understanding the civilization, the civilization approach to History. Several types of demonstration of Reductionism in teaching Russian History are analyzed.
Глобализация, превращение локальных социокультурных систем в открытые общества, формирование единого информационно-образовательного пространства и включение России в Болонский процесс объективно обусловливают общественную потребность в идентификации исторической науки. История сегодня понимается как реализованный опыт жизнедеятельности людей, преследующих свои социальные интересы в стремительно интегрирующемся мире.
Новое качество исторического образования определяет стратегические приоритеты гуманитарного знания, объективно обусловленные природой человека, создающего вещи. В эти вещи он вкладывает смысл, соответствующий возможностям его исторически определенного типа мышления, детерминированного природными и социокультурными условиями воспроизводства социальной жизни. Выделяются следующие культурно-исторические типы смыслового содержания культурных ценностей, отражающие состояние и возможности подверженного социокультурной эволюции Homo sapiens:
-
а) синкретический;
-
б) мессианско-идеократический;
-
в) рационально-гуманистический.
Перечисленные культурно-исторические типы являются выражением миропонимания человека:
-
а) тотально зависимого в своей жизнедеятельности от природных факторов, еще не научившегося отделять мысль от чувственности. Его мышление — предметно-логическое. Культура — языческая (архаическая). Методом социальной
мобилизации является социализация, а средством — радикализм;
-
б) жизнедеятельность которого оказалась в состоянии тотальной зависимости от потребления культурных ценностей, приобретшего категориально-логическое мышление, получившего возможность начать процесс своей личностной идентификации по отношению к сакральным ценностям, освященным религиями спасения. Культура дуалистична, в ее основе — идеология (религиозная и научная). Социализация сохраняет свое значение. Идеократия воспроизводит традиционализм, который становится культурным средством социальной мобилизации. Массовая неграмотность питает рекультивацию архаизма и радикализма;
-
в) опирающегося на научные знания, активно использующего абстрактные ценности, ставшие способами и средствами реализации его социального интереса. Гуманизация, ориентирующая личность на достижение социальной свободы, превращает модернизацию и трансформацию в методы социальной мобилизации личности. Просвещение и Реформация приводят к смене парадигмы веры, либерально-демократические ценности становятся культурными средствами социальной мобилизации и личностной самоидентификации. Эти типичные культурно-исторические процессы в разное астрономическое время переживают практически все социумы, что делает необходимым учет всеобщности закономерностей исторического развития при изучении отечественной истории. С другой стороны, редукция понимания истории, формируемая на основе абсолю-
© Ю.Ф. Кожурин, 2004
тизации всеобщности, ведет к игнорированию национальных и региональных особенностей. Это обусловливает необходимость учета диалектики универсального и уникального в изучаемом культурно-историческом процессе, ее раскрытия на занятиях со студентами.
Человек, и только человек, вне зависимости от того, осознает он это или нет, во все исторические периоды своей социокультурной эволюции сам определяет содержание своей жизнедеятельности, хотя в одно время пределы этой самости были настолько не осознаваемы им, что у него возникало ощущение своей полной несвободы. Путь от несвободы к свободе — это путь от дикости к цивилизации через варварство, в рамках которого человек сделал главное открытие: обожествил личность и придал антропоморфную форму своим богам, что и предопределило его переход от элемента социокультурной системы синкретического типа к элементу системы сначала мессианско-идеократического, затем рационально-гуманистического типа.
Новое качество человека, ставшего носителем цивилизации, было подмечено еще интеллектуалами античности, утверждавшими, что человек отличается от иных живых существ своей способностью «придавать смысл разуму» (Иов. 38:36). Личность, благодаря конверсии мышления (своего главного адаптационного средства), начинала воспринимать себя в качестве социокультурной ценности, вещи, реализуемой в действии. «Все вещи — в труде» (Еккл. 1:8). «Без мысли нет силы вещей, создающих историю^»1 «В гуманитарном познании понимание — рационально и общезначимо, оно связано с таким приобщением к смыслам человеческой деятельности, когда сознание начинает резонировать в вещах, а вещи выступают как вещание, раскрывая свой смысловой потенциал, удостоверяемый культурно-историческим, социальным опытом»2.
Отмеченное означает, что преподавание истории должно опираться на такие теоретико-методологические подходы и такие организационно-методические средства, т.е. на такую культуру вузов ского преподавания, которая поможет студенту научиться видеть в фактах и событиях истории (локально-региональной, отечественной и всемирной) то смысловое содержание, которое придавали своей жизнедеятельности современники.
В одно и то же астрономическое время, в рамках одного и того же локального (регионального) социума живут социальные индивиды, способные воспроизводить и воспринимать (при отсутствии специального образования) лишь те социокультурные ценности, которые адекватны их цивилизованности. Однако различия людей по такому признаку, как состояние цивилизационной разностади-альности и разноуровневость социокультурной данности, долгое время практически не воспринимались отечественными историками как данность. До 1917 г. слияние церкви и школы исключало признание указанной фактической реальности, ибо она противоречила идее равенства всех перед Богом. При советской власти этому не способствовала культивируемая идеология. Поэтому все «попытки „вывести“ социальное поведение человека из его биологической основы в прошлом объявлялись идейно порочными, вредными и подвергались критике „на уничтожение“, часто с оргвыводами»3. В результате современное преподавание отечественной истории столкнулось с проблемой идеализированного образа человека, ассоциируемого с этносом, нацией, не дифференцированного по своим социальным интересам. Редукционизм в форме отрицания социальной стратификации не давал возможности реконструировать объективную историческую картину динамики социокультурного плюрализма в истории Отечества.
Признание научной состоятельности теорий социальной стратификации позволило ввести в преподавание отечественной истории в качестве методологии анализа концепцию социального, культурно-исторического времени. С ее помощью можно дать социокультурную характеристику российского социума практически на всех исторических этапах его становления и развития через призму цивилизационного и разностади- ального подходов. «Если рассматривать историю России XX в. как исторический процесс, имеющий внутреннюю логику и подчиняющийся определенным закономерностям, то ключевыми остаются цивилизационный и стадиальный подходы»4. Что же касается цивилизации, разночтений ее смыслового толкования, то, вероятно, правильно считать, что цивилизация не выводима не из чего иного, кроме как из социальной сущности человека, подверженного эволюции. Мы полагаем, что цивилизацию следует рассматривать как продукт социальной эволюции, как возникшее имманентное свойство человека, проявляющееся в его способности воспроизводить культурные средства, понимать значение потребляемых культурных ценностей (включая абстрактные, к созданию которых социальный индивид не имел непосредственного отношения).
Возникновение объективной необходимости в гуманистической парадигме истории связано с сакрализацией человека и своими корнями уходит в античную мифологию. Трансформация данной необходимости в общественную потребность относится к Новому времени, к европейцам, вынужденным полагаться в решении возникавших проблем выживания на потенциал своей личностной самости. Экономической основой этого преобразования в понимании общественного значения истории стало массовое вовлечение населения в экономические отношения в качестве субъектов, все активнее стремившихся расширить экономическое поле своей деятельности, превратить землю, недра, движимое и недвижимое имущество, свои способности в источник извлечения прибыли — средство достижения нового качества жизни. Гуманизация, гуманистическая интерпретация истории и новое качество жизни (ибо качество жизнедеятельности человека, с тех пор как он оказался в состоянии тотальной зависимости от потребления культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание и ценовое выражение, оказалось непосредственно зависимым от размера извлекаемой прибыли, хотя и не своди мо к нему) приобрели характер взаимообусловленности.
Из сказанного вытекает: низкое качество жизни российского вузовского преподавателя — залог провала не только реформ в системе вузовского образования, но и всей совокупности социокультурных преобразований власти. «Мозг нации» должен хорошо «питаться», имея реальную, а не виртуальную возможность извлекать прибыль, выгодно реализуя свои интеллектуальные способности. Причем легитимно и в своем Отечестве. В противном случае неизбежно отмирание «мозга нации», а вместе с ним и летальный исход для всего социального организма.
Впрочем, в истории России была эпоха экзистенциалистского эксперимента, цель которого заключалась в том, чтобы заставить население получать удовольствие от низкооплачиваемого (или даже безвозмездного труда). Эта реверсия культурно-исторической практики догу-манистической эпохи истории человечества, осуществленная И.В. Сталиным, дала свои тактические результаты: к творчеству была приобщена значительная масса потенциально талантливого населения, выходцев из социальных групп, ранее традиционно занятых отупляющим физическим трудом. Для выходцев из этой социальной среды обретение нового социального статуса само по себе служило мощным моральным стимулом творческой активности, интерпретируемой как проявление патриотизма. В определенной мере этому способствовала и рекультивация редукционизма, отход от которого наметился во второй половине XIX в. в связи с объективно возникшей общественной потребностью в фундаментализации знания.
Объективные предпосылки преодоления духовной реверсии в истории России типичны. Их возникновение связано с появлением в поле социальных процессов субъектов экономических отношений, заинтересованных в развитии предпринимательства (включая выгодную продажу своих способностей на рынке труда) и извлечении прибыли на базе активного использования достижений НТП и интеграции в мировое экономическое пространство. Очередное возвращение к редукционизму как духовной реверсии становится проблематичным. Однако и в современной России сохраняются условия воспроизводства субъектов, кредо которых отражает библейская мудрость: «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после» (Еккл. 1:11). Это связано с прогрессирующей бедностью населения (материальной и духовной), включая его интеллектуальную составляющую — научно-педагогических работников всех звеньев системы образования.
Тем не менее поиск «ответов», адекватных «вызову» времени, становится реальностью современного состояния научно-педагогической деятельности российских гуманитариев. Он побуждает историков отказываться от некоторых схем и стереотипов познания, методов и методик научно-педагогической деятельности. В этом направлении уже сделаны определенные шаги. Официальное признание историков получают проблема философского осмысления объекта и предмета истории России. Теоретизирование наряду с вводом в научный оборот ранее не исследованного исторического материала становится приметой времени. Благодаря ставшему востребованным плюрализму в методологии истории раскрывается поливариативность смыслового содержания исторического факта, исчезает основание для понимания истории через призму парадигмы механистического редукционизма. Вариативность мотивационной базы деятельности субъекта и нереализованная альтернатива, отражающие имманентно присущее человеку свойство сравнивать и выбирать, получают статус исторического факта, становятся предметом научно-познавательного интереса.
Создаются научно-методологические основания для преодоления такой редукции понимания российской истории, как мифология и мифотворчество, намечаются подходы к созданию научной концепции исторического развития России и ее регионов. В изучении отечественной истории, ее периодов, этапов и эпох разру- шение мифологизации опирается на обогащение изучаемых проблем теоретикометодологическими достижениями наук о природе и об обществе. «Недоразвитость биологии человека как области познания, — отмечает Л.Л. Киселев, — породила у гуманитариев весьма опасную иллюзию, что это и не нужно, что гуманитарное знание самодостаточно. Отсюда полная (или почти полная) оторванность гуманитарного знания от биологического»5.
Обращение преподавателя отечественной истории к исторической антропологии позволяет овладеть научной методологией разрушения мифов о русском человеке, которого и «умом не понять», и «аршином общим не измерить». Исследование частной жизни россиян, выявление мотивационных оснований их общественно-поведенческой деятельности делают несостоятельными такого рода спекулятивные «концепции». Не выдерживают критики и мифы об исключительности или фатальной предопределенности судьбы России, которая детерминирована общинным, соборным началом, закрепленным государством. Поэтому жизнедеятельность россиян якобы навсегда пронизала сакральная идея о государе как персонифицированном воплощении государственности, освященная православием и его специфическими формами проявления, которые возникли в результате адаптации православия к языческой культуре аборигенного населения, вошедшего в состав России. В итоге культивируются мифы о фатальной неизбежности примата диктатуры воли над диктатурой закона, поскольку вся история политической жизни России будто бы только и свидетельствует о том, что личностная самоидентификация россиянина и его личностные интересы не имели значения для российской социокультурной системы «власть — общество». Между тем изучение смысло-содержательной основы мира человека, его интересов и потребностей делает такого рода мифотворчество научно несостоятельным6. Парадигма религиозно-этатического редукционизма анахронична в культурно-историческом плане, но все еще культивируема по политическим соображениям. Она требует критического научного осмысления, что не исключает анализ истоков, причин, условий и детерминантов (факторов) ее динамики в культурно-историческом времени и пространстве российской истории.
Фундаментализация исторического знания предполагает, что вузовский преподаватель отечественной истории совместно со студентами будет совершенствовать методику изучения межкультурного диалога, подвергать критическому анализу концепции «особости» и этатического (этноэтатического) редукционизма, раскрывая на конкретно-историческом материале диалектику общечеловеческого (универсального) и личностного (уникального) в многообразии социокультурных форм проявления. При этом особую роль в формировании навыков исторического мышления призван сыграть талант преподавателя создавать творческую атмосферу на семинаре. Ибо «семинар историка — это питомник, в котором живые учатся говорить живое слово о живых»7.
Цивилизационный подход позволил прочно прописаться в научно-образовательной практике сквозным историческим темам. Это придает отечественной истории характер целостного процесса, отражающего единство в многообразии социокультурных форм реализации плюрализма социальных интересов, свойственных субъектам полиэтнического, поликонфессионального народа России.
Фундаментализация исторического образования основывается, в частности, на такой подвергаемой нападкам посылке, как понимание того, что в основе духовности лежат знание и систематизированное образование, позволяющее трансформировать накапливаемую информацию в сознание. В этом, собственно, и заключается действительная сущность исторической науки и фундаментального исторического образования, призванного выработать у студента «уменье пользоваться знанием как следует»8. В данной связи возникает проблема соединения и разведения истин веры и на учных истин, возникающих в процессе познания истории.
Фундаментализация исторического образования совершенно не тождественна ориентации преподавания истории на пропаганду секуляризации общественного сознания и «воинствующего атеизма». Просвещение и Реформация, которые, в сущности, России еще предстоит пережить, культивация гуманизации в качестве метода мобилизации социальной активности личности на основе ее самоорганизации не означают отрицание веры как таковой, поскольку вера — имманентное свойство человека, а «разбо-жествление» есть всего лишь смена парадигмы веры.
Секуляризация общественного сознания как данность возникла объективно, и эта объективность социокультурного процесса, в том числе проявляющаяся и в российском социуме, развивающемся в историческом времени и социальном пространстве, цивилизационное измерение которого еще предстоит осуществить (наша наука пока не готова создать типовой учебник «Российская цивилизация»9), составляет предмет научного изучения на основе уважительного отношения к принципу свободы совести. «Ибо вера есть то, что наполняет сокровенные глубины человека, что движет им, в чем человек выходит, возвышается над самим собой, соединяясь с истоками бытия»10. Результатом изучения Отечественной истории должны стать полученные студентом научные знания и методология понимания, позволяющие ему владеть навыками самостоятельного анализа истоков, причин, условий и детерминантов возникновения в российской социокультурной исторической действительности парадигм как религиозного редукционизма (синкретического, православного, мусульманского, иудаистского и др.), так и секуляризованного содержания. Навыки такого анализа появятся, если субъект образования и познания овладеет научным богатством плюрализма методологических подходов и методик, открывающих возможность понимания влияния на жизнедеятельность человека того или иного культурно-истори- ческого времени множества объективных факторов: природно-экологических, экономических, социальных, политических, духовных, геополитических, общечеловеческих, свойственных биосоциальной природе Homo sapiens.
В плоскости многофакторности системного влияния на жизнедеятельность человека объективных условий раскрываются ограниченные возможности человека, стремящегося реализовать свой социальный интерес. Это объективно порождает противоположные социальные интересы, их трансформацию в социальные противоречия и возникновение конфликтных ситуаций и протестных выступлений — питательной среды радикализма как исторически обусловленной реакции на культивацию и рекультивацию социальной дискриминации личности. Таким образом возникает социокультурная среда политической спекуляции на редукции макросистемного подхода, вплоть до идейного обоснования объективной необходимости и общественной целесообразности практики массовых репрессий (Иван IV, большевики, И.В. Сталин), если не удается решить общественные проблемы в русле правового поля, в результате установившегося диктата воли над правопорядком.
Макросистемный редукционизм как метод, объясняя зависимость человека от Заветов с Богом и объективных факторов, выполнял апологетическую функцию. С его помощью, воздействием на общественное сознание людей, устранялись социальные конкуренты при разделе совокупного общественного продукта (пропагандой монашеского аскетизма, борьбой с потребительством и накопительством в советском обществе, носившей характер системы культивируемых ценностных ориентаций, призванных влиять на формирование у личности заданной мотивации общественно-поведенческой деятельности). Увлечение макросистем-ным редукционизмом приводит к потере человека в историческом процессе. Между тем во все периоды отечественной истории, на всех этапах ее развития, в силу объективного характера смысла жизнедеятельности человека, вопреки культивации и рекультивации макросистемного редукционизма человек оставался творцом истории, подчиняясь объективной логике смысла своей жизнедеятельности, поскольку «жизненный смысл объективен, неповторим»11.
В то же время увлечение анализом жизнедеятельности человека как микро-системного явления, вне связи с макро-системными процессами, имеет следствием упрощение иного плана, сводящее изучение истории к выяснению экзистенциальных, метафизических оснований мотивационного действия человека, творящего историю. В результате история теряет человека как элемента системного социокультурного явления, создающего, регулирующего макросистем-ные социокультурные процессы в интересах реализации своих социальных целей, удовлетворения своих потребностей в реальном мире макро системных ценностей (социально-экономических, духовно-политических).
Макро- и микросистемные явления в истории творят люди, преследующие свои интересы. Возможность для той или иной массы людей, объективный смысл социальной жизни которых заключается в самореализации, выступать в качестве субъекта макро- и микросоциальных процессов, ограничена историческими условиями. Это заставляет их вести жестокую борьбу за выживание не только с силами природы, но и со смысловым содержанием понятий как символических форм выражения социальных факторов, зафиксированных в общественном сознании, влияющих на мотивацию общественноповеденческой деятельности личности. Например, традиционно, начиная с античности вплоть до Нового времени, содержание категории «экономика» ассоциировалось с искусством ведения хозяйства. Понимание эффективности экономического развития связывалось с ростом производства натурально-предметной формы выражения культурных ценностей, потребительские свойства которых непосредственно влияли на достижение изобилия и богатства жизнедеятельности человека. Такой смысл, вкладывавшийся в категорию «экономика», соответствовал представлению о предметной форме живого труда как единственно возможного средства производства вещи.
В Новое время обозначенное понимание экономики становится историческим анахронизмом. Промышленный переворот и индустриальные средства производства культурных ценностей привели к утрате прежнего значения живого труда. Возросла реальная роль такой абстрактной социокультурной ценности, как овеществленный труд, доля которого неуклонно возрастала во вновь создаваемой стоимости. Отказ от натурализации, специализация и интеграция объективно изменили качество основного средства выражения богатства, которое стало ассоциироваться уже не с предметно-натуральными формами, а с абстрактными — деньгами. Причем это соответствовало интересам всех участников экономического процесса. В результате извлекаемая субъектами экономических отношений прибыль (в конвертируемой валюте) начала восприниматься как реальное абстрактное социокультурное средство выражения эффективности развития экономики региона, страны и т.д. Критерием эффективности национальной экономики стал устойчивый рост прибыли населения, позволяющий ему изменять качество своей жизни. Иные, предметно-натуральные, формы выражения экономического развития региона, страны трансформировались в исторический анахронизм, ибо историческое время их тотального общественного признания — античность и Средневековье. Подобного рода метаморфозы заслуживают право на внимание со стороны субъектов, познающих историю.
За сменой парадигмы смыслового значения дефиниций, возникновением новых и их введением в научный оборот просматриваются такие человеческие интриги, драмы и трагедии реальной социальной жизни, становящиеся фактами истории, которые придают ее предмету вечную привлекательность, делая его живым, увлекательным для познания и понимания. Ибо интриги субъектов, преследующих свои интересы, стремящих ся устранить конкурентов и расчистить социальное поле для реализации своего смысла жизнедеятельности, составляют квинтэссенцию социальной истории, обусловливают содержание противоречивого единства мира людей, реализованный смысл жизнедеятельности которых и определяет целостность исторического процесса. Именно интриги современников исторических событий наполнили формы социокультурного выражения такими таинствами, завязали столько узелков из пересекавшихся друг с другом человеческих судеб, что еще не одно поколение историков будет биться над их разгадкой и распутыванием. Историки возвращают из забвения страсти, волновавшие личности той или иной культурно-исторической эпохи, наполняя исторический процесс жизнью.
Пробуждение у студентов интереса к изменению смыслового значения дефиниций, отражающих смену парадигм социальных интересов людей своего культурно-исторического времени, повышает интеллектуальное напряжение вузовских занятий по истории. Акцентирование внимания на исторических фактах регионального характера и исторических рубежах всемирной, отечественной и региональной истории, отражающих смену вех, позволяет решать целый комплекс задач:
-
а) совмещать теорию с конкретно-историческим материалом и, таким образом, наполнять изучение истории интеллектуальным содержанием, освобождая ее от редукционизма событийно-хронологического подхода;
-
б) изучать общие вопросы истории России на местном материале, раскрывающем место человека в истории через призму всеобщности его биосоциальных свойств, что приведет к пониманию уникального — в контексте общечеловеческого, регионального — в контексте целостности всемирно-исторического процесса;
-
в) активно использовать возможности исторической компаративистики. Сравнивая социокультурные процессы, выявляя типичные признаки в геосоци-альном (всемирном) и культурно-истори-
- ческом (адекватность способа и средств выживания личности и социума определенному социокультурному типу) измерениях, можно выйти на понимание асимметрии и синхронности цивилизационного развития России социокультурной эволюции человечества, краеугольным камнем которой выступает личность, преследующая свои интересы.
В настоящей статье обозначены лишь некоторые, на наш взгляд типичные, проявления редукционизма в практике преподавания отечественной истории. Во многом они — следствие факторов объективного порядка. Их преодоление зависит от роли и социальной заинтересованности в этом вузовского преподавателя. Именно вузовский педагог-историк, ищущий вместе со студентами «ответы» на новые «вызовы», становится определяющим фактором трансформации предмета истории в действительно стратегическое основание современной гуманитарной образовательной среды. Ибо он непосредственно влияет на возникновение у интеллектуальной элиты российской молодежи понимания того, «в каком месте нашей истории мы находимся, ка ково наше место в современном мире и какие ценности цивилизации следует выбирать»12.