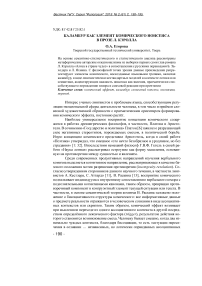Каламбур как элемент комического нонсенса в прозе Л. Кэролла
Автор: Егорова Ольга Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
На основе семантико-стилистического и статистического анализа рассмотрены метафорические авторские окказионализмы из выборки первых семи глав романа Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» в сопоставлении с русскими переводами Б. Заходера и Л. Яхнина. С философской точки зрения данные произведения репрезентируют элементы комического, воссозданные языковыми тропами, включая каламбур, в виде лингвистически нестандартных моделей в контексте логики или семантики, акцентирующих важность нонсенса как явления, прагматически способствующего порождению юмора и смеховой реакции при прочтении
Комический эффект, каламбур, словесный нонсенс, омонимия, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/146281442
IDR: 146281442 | УДК: 81’42:81’25:82:1
Текст научной статьи Каламбур как элемент комического нонсенса в прозе Л. Кэролла
Интерес ученых-лингвистов к проблемам языка, способствующим регуляции эмоциональной сферы деятельности человека, в том числе и приёмов словесной художественной образности с прагматическим ориентиром формирования комического эффекта, постоянно растёт.
Наиболее универсальное восприятие концепции комического содержится в работах древнегреческих философов, в частности, Платона и Аристотеля. В сочинении «Государство и политика» Платон [6] заявлял о разрушающей силе негативных стереотипов, порождаемых смехом, в политической борьбе. Иную концепцию комического представил Аристотель, когда в своей работе «Поэтика» утверждал, что смешное «это нечто безобразное и уродливое, но без страдания» [1: 32]. Впоследствии немецкий философ Г.В.Ф. Гегель в своей работе «Наука логики» рассматривал остроумие как форму мышления, основанную на противоречии между сущностью и явлением.
Среди современных продуктивных направлений изучения вербального комизма выделяется когнитивное направление, рассматривающее в качестве базового положения мотив разрешения противоречия (incongruity-resolution). Согласно утверждениям сторонников данного научного течения, в частности лингвистов А. Кестлера, С. Аттардо [11], В. Раскина [13], восприятие комического подталкивает индивидуума к внутреннему сопоставлению вербального юмора с подсознательными когнитивными канонами, таким образом, превращая противоречивый компонент в конгруэнтный элемент текущей ситуации или текста. В частности, в основе семантической теории комизма В. Раскина заложено положение о бисоциативности структуры комического: все информативные данные о предмете реальности отражаются в человеческом сознании в виде ассоциативных контекстов или скриптов. Таким образом, комический эффект возникает при мысленном переходе из одного ассоциативного контекста в другой посредством определённого лексического фактора (trigger), результатом действия которого становится возникновение смеха. Человеку бывает смешно, когда два изначально чуждых контекста, благодаря бисоциации, то есть «ситуации пересечения в сознании … независимых, но логически оправданных ассоциативных контекстов» [3: 279], обретают связанность и порождают когнитивную дисгармонию, компенсируемую реакцией смеха.
Рассмотрим лингвостилистические факторы возникновения комического в романе Л. Кэролла «Алиса в стране чудес». В исследовании на основе семантико-стилистического и статистического анализа были рассмотрены метафорические авторские окказионализмы из выборки первых семи глав романа британского писателя в сопоставлении с русскими переводами Б. Заходера и Л. Яхнина. С философской точки зрения данные произведения демонстрируют элементы комического, воссозданные языковыми тропами, включая каламбур, в виде лингвистически нестандартных моделей в контексте логики или семантики, что акцентирует важность нонсенса как явления, которое может вызывать смех. Согласно постулатам З. Фрейда [9], изучавшего в своих исследованиях психологическую подоплеку комизма, а также взаимосвязь остроумия и бессознательного в сновидениях, смеховой эффект порождается как игрой слов, так и игрой мысли. При искажении на лингвистическом уровне возникают анекдотично забавные комбинации из общепринятых слов, так называемые portmanteau words , как, например, словосочетание «хливкие шорьки», образованное посредством контаминации русских прилагательных «хлипкий» и «ловкий» [7] в начале баллады «Бармаглот» Л. Кэролла из повести «Алиса в Зазеркалье» в переводе Д. Орловской.
В ряде случаев в романе Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» мы наблюдаем преобразование смысла целой фразы или предложения с многословным составом в нелепое нагромождение из нонсенса, эксцентрично бросающего вызов строгим нормам морали буржуазного общества Викторианской Англии. Безусловно, «Алиса в стране чудес» и «Зазеркалье» относятся к жанру сказки, однако в их читательскую аудиторию входит и множество взрослых, и причиной такого парадокса стал «интеллектуальный характер нонсенса» [2: 77]. Мотив погружения в сновидение, размывающего границы между реальностью и сказочным восприятием времени, становится тем лексическим фактором, который позволяет перескочить в сюрреалистическое воображаемое пространство вокруг персонажа Алисы. И поскольку литературный жанр нонсенса в произведении Л. Кэролла зиждется на языковом базисе, далее мы рассмотрим некоторые примеры использования автором созвучных или графически схожих слов, включая и омонимию, то есть каламбура. Слово «каламбур» своими корнями уходит к традициям общения при Людовике XV, в свите которого был барон Каленберг, бездумно коверкавший французские слова в своей речи для создания двусмысленных острот. В словаре литературоведческих терминов данное существительное (от франц. calembour ) обозначает стилистический оборот или миниатюру, основанную «на игре слов, их звуковом сходстве при различном смысле, придающих речи комический оттенок» [8]. Также каламбур может складываться как на основе омонимии, так и омофонии, а также при переосмыслении устойчивого сочетания.
При переводе английского каламбура на другой язык, в частности русский, возникают сложности, обоснованные поликомпонентной структурой этого языкового явления. Ведь помимо постоянных элементов с выражением предметно-логической, ассоциативно-образной и функциональной информа- ции, существуют также и переменные компоненты каламбура, вмещающие локальную фоновую информацию, специфическую для менталитета конкретной страны. Как следствие, в ряде случаев переводчику приходится домысливать не только часть подобного словосочетания, но и посредством приёма компенсации восполнять потерю фоновой информации эквивалентами из языка перевода.
Обратим внимание, что в составе любого каламбура существует микроядро из пары компонентов с похожей фонетической конфигурацией в окружении контекста с возможностью преобразования ядерных компонентов в комичную игру слов. Таким образом, для отбора эквивалента каламбуру оригинала при переводе учитывается семантика, как пары ядерных компонентов, так и семантика одного ядерного элемента, а в некоторых случаях возможно конструирование новой семантической фабулы. Чаще всего компоненты ядра каламбура в оригинале не имеют равнозначных аналогов при переводе, вынуждая переводчика создавать новый каламбур посредством расширения семантики одного ядерного компонента альтернативными составляющими.
Рассмотрим пример из первой главы романа Льюиса Кэролла «Down the rabbit-hole» или «Кувырком за кроликом» в переводе Л. Яхнина, когда главная героиня Алиса, стремительно падая в кроличью норку, рассуждает о том, что местом её прибытия может стать обратная сторона земного шара. И в её детской фантазии рождается дескриптивная модель каламбура о проживающих там существах: «The people that walk with their heads downwards! The antipathies, I think» [12: 5]. Существительное antipathies гипотетически напоминает слово antipodes , переводимое в электронном словаре Мультитран [10] как «антипод, противоположность», что комично и запутанным образом выражает как любопытство героини, так и её болезненный антагонизм к происходящему. В переводе Б. Заходера встречается следующий переводческий эквивалент: «среди этих… которые ходят на головах, вверх ногами! Как они называются? Анти… Антипятки, что ли?» [4: 2], тогда как в переводе Л. Яхнина представлена следующая интерпретация: «Забавно будет встретиться с людьми, которые живут под нами. Они, наверное, так и называются – АНТИ-ПОД-НАМИ» [5: 1]. Обе русскоязычные версии репрезентируют комичный словесный нонсенс в каламбурах языка перевода с расширением семантики ядерного элемента исходного каламбура, причем экспансия ядерного элемента осуществляется за счёт вкрапления префикса «анти», выражающего противопоставление.
В следующем примере Алиса резонирует о живой природе: «Do cats eat bats? and sometimes, ‘Do bats eat cats?» [12: 6]. Перевёртыш из слов cats и bats приводит к комичному нонсенсу при восприятии смысловой нагрузки частично бессмысленного предложения. Каламбур оригинально преломляется творческим восприятием Л. Яхнина в следующем переводе: «Мыши летучие. Мыши ли, тучи ли…» [5: 1]. Вследствие разбивки на несколько частей фонетически омонимичных слов происходит обыгрывание фонетической схожести существительных с разноплановыми лексическими подтекстами. Как результат, повествование лишается логичности в пользу бессмыслицы или нонсенса, основанного на преломлении семантики одного ядерного компонента исходного каламбура. В переводе Б. Заходера мы наблюдаем более оригинальное преломление исходной игры слов: «Скушает кошка летучую мышку?..Скушает мышка летучую мошку?» [4: 2]. В этом примере мы замечаем своеобразное вкрапление - 192 - переводчиком словосочетания «летучая мошка», что гипотетически объяснимо желанием усилить смешную нелепость детской фантазии Алисы и приблизить оригинал к культурологическим концептам русского фольклора.
Далее, в названии третьей главы оригинала «A Caucus-Race and a Long Tale» [12: 30] вкрапление английского фразеологизма caucus-race со значением «политические игры» приводит к многослойности лексического подтекста исходного каламбура с фразеологической основой, который в переводе Л. Яхнина звучит так: «История с бестолкотнёй и с хвостиком» [5: 2]. Такая интерпретация предвосхищает авторскую пародийную аллюзию на недостатки системы судопроизводства Викторианской Англии и последующий стихотворный рассказ персонажа мыши, представленный в виде графического «хвоста» с обыгрыванием омонимичной цепи английских существительных tale со значением «история» и tail как «хвост». В этом примере метафорический окказионализм переводной версии представляет каламбур на новой семантической основе. Аналогичный подход к трактовке мы наблюдаем и в переводе Б. Заходера.
Поскольку ассоциативность англоязычных фразеологических оборотов не всегда имеет языковые параллели в русском языке, переводчики, в частности, Л. Яхнин и Б. Заходер вынуждены преломлять не только план выражения в каламбурах с фразеологической основой, но и план содержания таких словосочетаний. Как подтверждение рассмотрим завершение дискуссии Алисы со сказочным безумным персонажем Шляпы в седьмой главе. Затрагивая ценность понятия «Времени», характеризуемого в оригинале одушевленным местоимением him , что само по себе является комичной нетривиальностью для английского языка, Алиса уверенно заявляет: «… but I know I have to beat time when I learn music» [12: 104], что дословно переводится «однако, я знаю, что должна отбивать такт, когда занимаюсь музыкой». И получает категоричный ответ Шляпы: «He won’t stand beating» [12: 104], буквально переводимый «он не выдержит избиения». В данном примере используется обыгрывание омонимичных по звучанию сочетаний to beat time со значением «делать в такт» и герундия beating , переводимого как «избиение». Такая смысловая двусмысленность порождает комичный нонсенс, который в переводе Б. Заходера преломляется с искажением смыслового контекста оригинала в реплике возражения Алисы относительно того, что она «не думала» о Времени, «особенно на уроках музыки, я думала – хорошо бы получше провести время…» [4: 8], получая в ответ раздосадованную реплику Шляпы: «…Провести время?! Ишь чего захотела! Время не проведёшь». В этом примере мы наблюдаем вкрапление русского фразеологизма «провести время» со значением «развлечься» и интерпретации данного постулата безумным персонажем Шляпы в контексте «обмануть, обхитрить». Поведенческая логика Шляпы основана на противопоставлении своего нестандартного мышления общепринятым канонам окружающего мира.
В продолжение упомянем сказочную историю, рассказанную персонажем грызуна Сони в повествовании седьмой главы «Алисы в стране чудес». В английском оригинале данный грызун обозначен словом dormouse, имеющим сходство с латинским глаголом dormire, означающим «спать». В ходе сказки грызун Соня периодически спал в чайнике, что объясняется исторической аллюзией на бытовые реалии Викторианской Англии, когда местные дети заводили сонь в качестве домашних питомцев и держали зверей в чайниках, которые наполняли сеном или подобной травой. И тут Соня повествует о трёх сестрах, которые обитали в treacle-well [12: 112], причём данное выражение, дословно переводимое как «колодец с патокой», само по себе является нелепостью. В переводе Б. Заходера колодец преобразуется в «мармеладный», тем самым демонстрируя преломление смысловой парадигмы исходного каламбура. Далее Соня рассказывает, как сестры рисовали всевозможные предметы. Потом грызун замечает, что они рисовали все «…that begins with an M, such as mouse-traps, and the Moon, and memory, and muchness… did you ever see such a thing as a drawing of a muchness?» [12: 112], переводимое «… которые начинаются с буквы «М», такой как ловушки для мыши, и Луна, и память, и muchness… Вы когда-нибудь видели такую вещь, как рисунок muchness?», где muchness можно перевести как «множество, экстравагантность» [10]. Тогда как в переводе Б. Заходера мы наблюдаем следующие комические трансформации плана выражения исходного каламбура на уровне целого предложения: «На букву М: мышеловки, и морковки, и мартышек, и мальчишек, и мурашки, и мораль… Ты видела мурашки, хотя бы на картинках?» [4: 8]. На примере данного отрывка мы замечаем экспоненциальное увеличение и нестандартное преломление плана выражения комических компонентов исходного каламбура в переводе. В данном примере связанность каламбура с последующим специфически ограниченным в смысловых коннотациях контекстом оригинала, создает многократные препятствия при переосмыслении каламбура на другом языке. Омонимия компонентов каламбура приводит к тому, что при отсутствии семантически мотивированных аналогов в языке перевода, переводчик вынужден подыскивать семантически отличные омонимы в своей языковой среде, меняя при этом как план выражения, так и план содержания фразы или целого предложения.
Статистический анализ выборки из семи глав сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» показывает, что наиболее частотны языковые каламбуры на основе семантики одного элемента ядра, в процентном отношении составляющие более 58% от общего количества каламбуров, включающих и аналоги с новой семантической основой.
В завершении отметим, что литературный нонсенс своеобразно преломляет и обогащает существующую реальность, демонстрируя творческий потенциал сознания по отношению к действительности, нивелируемой устойчивыми нормами социального поведения. И каламбур, как стилистический приём является одним из лингвостилистических факторов порождения комизма в художественном повествовании с развитием дальнейшего парадокса смеховой реакции. Добавим, что комический эффект повествования при переводе на другие языки частично достигается за счёт умения переводчика сконструировать новый каламбур посредством расширения семантики ядерного компонента альтернативными составляющими.
exe?a=DownloadFile (дата обращения: 10.01.2019).
Список литературы Каламбур как элемент комического нонсенса в прозе Л. Кэролла
- Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель. М.: Лабиринт, 2002. С. 32-35.
- Демурова Н.М. Льюис Кэрролл: очерк жизни и творчества / Н. М. Демурова. М.: Наука, 1979. С. 77-79.
- Кошелев А. Д. О природе комического и функции смеха / А. Д. Кошелев [Текст] / Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. М., 2007. С. 278-279.
- Льюис Кэрролл, Б.В. Заходер. Алиса в стране чудес. URL: http://www.wonderland-alice.ru/translations/zahoder/?curPos=1 (дата обращения: 1.03.2019).
- Льюис Кэрролл: Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Перевод и пересказ Леонида Яхнина. / Л. Яхнин. URL: https://bookz.ru/authors/l_uis-kerroll/alisa-v-_388/1-alisa-v-_388.html (дата обращения: 15.02.2019).
- Платон. Государство и политика / Платон. М.: АСТ, 2017. 512 с.
- Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало, и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. / Перевод и послесловие Н.М. Демуровой; стихи в переводах С.Я. Маршака и Д.Г. Орловской. София.: Издательство литературы на иностранных языках, 1967. 228c.
- Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев. М.: Просвещение, 1974. 509 с.
- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / З. Фрейд. М.: Университетская книга, 1998. 320 с.
- Электронный словарь Мультитран. URL: https://www.multitran.ru/c/m. exe?a=DownloadFile (дата обращения: 10.01.2019).
- Attardo S. Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis / S. Attardo. N. Y.: Mouton de Gruyter, 2001. 238 p.
- Caroll L., Alice's Adventures in Wonderland / L. Caroll. URL: http://www/read.gov/books/pageturner/alice_wonderland/#page/2/mode/2up (дата обращения: 6.03.2019).
- Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor / V. Raskin. Dordrecht.:D. Reidel Publishing Company, 1985. 284 p.