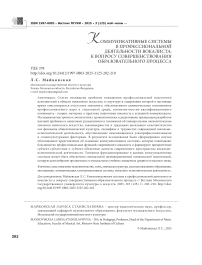Коммуникативные системы в профессиональной деятельности вокалиста: к вопросу совершенствования образовательного процесса
Автор: Майковская Л.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Педагогика и образование в сфере культуры
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме повышения профессиональной подготовки исполнителей в области вокального искусства, в структуре и содержании которой в настоящее время констатируется отсутствие значимого, обусловленного динамическими изменениями профессионального мира и социальной среды, компетентностно-квалификационного компонента – теории, методики и практики подготовки вокалиста к успешной коммуникации. Исследование выстроено в соответствии с хронологическим и дедуктивным принципами разработки научной проблемы и охватывает размышления и положения об универсальном аксиологическом значении певческого искусства, закономерностях и традициях вокального исполнительства как феномена общечеловеческой культуры, специфике и трудностях современной вокально-исполнительской деятельности, обусловленных изменяющимися узкопрофессиональными и социокультурными факторами. В результате исследования было сформировано научно обоснованное представление об основных коммуникативных системах, которые охватывают большинство профессиональных функций современного вокалиста и формируют приоритетные субъект-субъектные и субъект-объектные аспекты современного пространства вокально-исполнительской деятельности. Успешное функционирование в данных коммуникативных системах может быть обеспечено специальной целенаправленной комплексной подготовкой, которую целесообразно организовать в музыкальных учебных заведениях среднего и высшего звена.
Вокальное исполнительство, голос, певческая культура, система вокального образования, метанавыки, коммуникация, коммуникативная система, вокально-исполнительская деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/144163491
IDR: 144163491 | УДК: 378 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-202-210
Текст научной статьи Коммуникативные системы в профессиональной деятельности вокалиста: к вопросу совершенствования образовательного процесса
Вокальное исполнительство является одним из самых распространенных и востребованных видов музыкальной деятельности за счет неисчерпаемых жанрово-стилевых и репертуарных ресурсов, неограниченных возможностей для интеллектуального и эмоционального самовыражения, проявления творческой индивидуальности и взаимодействия с социумом в формате художественной коммуникации.
Попыткам объяснения природы данного явления посвящено бесчисленное множество исследований в области антропологии, биологии, психологии, социологии, культурологии, искусствознания, педагогики и других наук, исследующих человечество в различных аспектах его существования. Сегодня наиболее интересные данные, касающиеся эффектов влияния музыки на человеческое сознание, предлагаются представителями относительно новых научных направле- ний – нейробиологии и нейролингвистики. Их тезисы о бесконечно сложном синтаксисе музыки и его стимулирующем воздействии на нейронные сети, конструируемые человеческим мозгом, особенно активно продвигаются последние десять лет не только в профессиональном сообществе специалистов-исследователей, но и среди людей, далеких от нейронауки, компьютерных технологий и академической среды [12].
Эмпирические и теоретические исследования в области этномузыкологии и музыкальной антропологии, осуществляемые с конца XIX столетия, убедительно обосновывают пение как главный протоинструмент мировой музыкальной культуры, константу онтогенеза человека как мыслящего, чувствующего и активно действующего субъекта социокультурных отношений (бытовых, ритуальных, межличностных, коллективных) [5]. Такая значительная, полифункциональная роль певческой
L
деятельности (вокальной и хоровой) в истории развития человеческого рода обусловила закрепление в научной среде за пением статуса прародителя человеческого языка во всем многообразии его проявлений, форм и функций. Достаточно убедительно данный тезис раскрывается и обосновывается в работе современного археолога С. Митена «The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body» [15]. Исследователь эволюционного развития мышления, языка и музыкальной культуры человечества, приводя результаты своих многолетних эмпирических поисков и анализа доисторических культурных артефактов, приходит к выводу о том, что музыка и, в том числе, музыкальность уже для неандертальцев являлась главным инструментом не только эмоционального реагирования, но и социальной коммуникации вообще [15], по словам отечественных коллег-ученых – источником «знакового поведения» [13].
Сегодня, по данным каталога «Ethnologie» [14], человечество имеет более 7 000 живых языков, то есть, оперируя понятиями нашей тематики, – инструментов для межличностной вербальной и художественной коммуникации. 2 500 языковых систем из приведенного количества находятся, по мнению специалистов, на грани исчезновения [14]. Это тревожные данные не только для лингвистов, но и для представителей широкого ряда научных и практических областей, чья профессиональная деятельность и, зачастую, весь смысл научной и творческой жизни сосредоточен на внутриличностных и социокультурных явлениях и процессах, связанных с языком и речью: утеря языка ведет к безвозвратному исчезновению музыкально-речевых практик, невозможности восстановить, понять, тиражировать подлинное звучание музыкальных текстов, обнаруживаемых впоследствии потомками, с чем, как известно, сталкиваются современные представители музыкальной археологии, пытающиеся дешифровать подлинные артефакты древних музыкальных культур (Древней Греции, Доколумбовой Америки, Древнего Китая и др.).
Музыка, пока она представлена в реальном звучании – непосредственно в живом воспроизведении или в записи (аналоговой или цифровой) произведений вокального, хорового искусства, а капелла или с инструментальным сопровождением, – становится вечной, не имеет «сроков годности», всегда находит заинтересованных в ней исполнителей и благодарных слушателей, так как сам вид коммуникации, к счастью, буквально «вшит» природой в человеческую сущность, а музыкальные произведения содержат тот самый культурный код, который отзывается в душах, активируется в нейропсихологических структурах человека, принадлежащего к соответствующему этнокультурному сообществу [10].
И в прошлые эпохи, в древних образцах певческого и инструментального исполнительства, и в настоящее время, в оригинальных произведениях современного искусства, музыка в жизни человека не ограничивается запомнившейся с младенчества колыбельной матери или хитами, звучащими из тысячи динамиков, кратковременно доминирующих среди неисчислимых результатов художественного творчества предыдущих поколений и музыкантов-современников. Музыкальная, в том числе певческая, культура – в широком спектре моновидовых и синкретических практиках, объединяющих звучащее слово, звучащий жест, звучащее действо – всегда интегрировала в себя звуковую среду различных источниковых и функциональных порядков: человеческий плач, звуки трудовой деятельности, обеспечивающей продолжение жизни, пение птиц, все вибрационные, доступные слуховому восприятию, проявления живой природы и планетарных стихийных сил. Все эти звуки, во-первых, интонируемы, а во-вторых, наполнены аксиологическими контекстами индивидуально-личностного, коллективного (семейно-родового, этнонационального) и общечеловеческого характера, позволяющими не только идентифицировать те или иные явления посредством аналогий, ассоциаций, образных представлений, но и испытывать эмоции, а также более глубинные и пролонгированные ментально-чувственные состояния, связанные с откликом нашей психической системы, чутко реагирующей на поступающие извне сигналы и раздражители с определенными звуковысотными, темпоритмическими и тембровыми характеристиками.
Сам процесс певческого исполнительства, при условии грамотного методического и психолого-педагогического сопровождения, – это естественным путем гармонизирующая физиологические и психоэмоциональные аспекты активность. Именно пение, за счет широкого спектра перечисленных выше характеристик, обладающих психофизическим здоровьеформирующим потенциалом, гораздо более рельефно и точно отражает, воплощает и – при необходимости – трансформирует ту или иную мысль, эмоцию, чувственное переживание или состояние, чем, например, художественная декламация литературных текстов, игра на музыкальном инструменте или же наблюдение за игрой театрального исполнителя или киноактера.
Если рассматривать данный процесс в профессиональном контексте, то сложнейшие образцы вокальной музыки, созданной в различных стилях и жанрах, требуют от исполнителя, осваивающего подобный материал, высокого уровня подготовки, раскрытого таланта и развитых способностей. Однако в данной ситуации «отягчающим» фактором (препятствующим, сдерживающим глубоколичностные интерпретаторские мотивы) является существование давно сложившегося фонда моделей эталонного исполнения, которые образовывали рейтинговые системы с момента появления звуко- и видеозаписи. Так, профессиональным вокалистам доступны записи реального исполнения и живых выступлений большого числа талантливейших певцов конца XIX-первой половины ХХ столетия, гениальных исполнителей лучших произведений отечественной и мировой музыкальной культуры, например, Надежды Васильевны Плевицкой и Федора Ивановича Шаляпина, Энрико Карузо, Эллы Фицдже- ральд и других исполнителей, определивших высокие стандарты певческого звука, критерии общей культуры исполнения и новые ориентиры для организации процесса профессиональной подготовки и достижения высот художественного мастерства.
Благодаря, в том числе, этим достижениям современная система вокального образования в России и в целом ряде других стран мировых центров музыкальной культуры, находится на довольно высоком уровне, демонстрируя характеристики методологической структурированности и технологической динамичности [7]. Огромное число способных и талантливых абитуриентов ежегодно поступает в специальные учебные заведения различного уровня и статуса, а особо одаренные, с ярким творческим потенциалом, и наиболее трудолюбивые выпускники обретают место в профессии [8]. Однако далеко не все из них обладают широким набором развитых метанавыков (обеспечивающих адаптивность, осознанность, коммуникативность, интеллектуальную гибкость, продуктивность и др.), чтобы быть способными выдерживать современные условия профессиональной музыкально-исполнительской деятельности и требования индустрии культуры, жесткую конкуренцию, изматывающие репетиционные и плотные концертно-гастрольные режимы. Не каждому из них дана эмпатия, чуткость и проницательность, позволяющая выстраивать успешную коммуникацию во всем многообразии её профессионально-значимых подвидов, являющихся факторами профессионального роста и успешной карьеры, творческой самореализации и общественного признания.
Однако именно эти индивидуальноличностные социально-профессиональные показатели (навыки и способности) в целом ряде случаев являются для исполнителя, особенно для вокалиста, ориентированного на сольную карьеру, жизненно необходимыми, так как коммуникация, в широком профессиональном контексте понимаемая и как межличностное многоцелевое обще-
L
ние, и как сложная совокупность процессов передачи информации от исполнителя аудитории, обладает значительно большей факторной рельефностью и обусловленностью, чем у инструменталистов, и, тем более, у творческих коллективов. Профессиональная деятельность вокалиста, как правило, включает в себя необходимость личного, непосредственного и активного участия в целом ряде принципиально различных коммуникативных ситуаций, требующих специальных умений многоуровневого, многоаспектного взаимодействия, направленных на выстраивание эффективного процесса, из которого в конечном итоге складывается не только результат работы над конкретным творческим проектом, но и профессионализм вокалиста как исполнителя, уровень его исполнительской культуры, артистический имидж и многое другое.
Рассмотрим основные коммуникативные системы в сфере вокально-исполнительской деятельности (системы профессионально-и социально-значимых отношений вокалиста) более подробно.
Исполнитель – слушатель. Взаимодействие с публикой – это наиболее очевидная коммуникативная модель, участвующая в формировании целостной системы коммуникации в вокально-исполнительской деятельности. При первом обобщенном рассмотрении профессиональной деятельности вокалиста кажется, что данная модель является приоритетной и основной. При этом в сознании относительно компетентного индивидуума воображение конструирует стандартный набор элементов реализации этой модели: сцена, свет, вокалист, микрофон, звучащая музыка, пение. Однако это только внешний и ограниченный обзор рассматриваемого процесса, сильно отличающегося от многоаспектной ситуации, которая действительно происходит по ту сторону зала, в пространстве сцены. Ведь обращение к слушателю и общение с ним – это сложный процесс, требующий сформированности не только основных профессиональных умений и навыков, непосредственно связанных с актом музыкального исполнительства, но также всех вышеупомянутых метанавыков и, в том числе, активно используемого арсенала вербальных и невербальных средств коммуникации, среди которых ораторское мастерство, реализуемое через разъяснения или короткие реплики между произведениями, формирующими духовную и душевную связь исполнителя и аудитории, уникальную интеллектуальнотворческую атмосферу; мимика, сценическое движение, элементы хореографии и другие визуальные стимулы, способствующие повышению убедительности формируемого образа [2], цельности концепции концертного выступления, исполнительской программы.
Все эти средства обеспечивают свободу певца в пространстве сцены. Однако подобный набор личностных характеристик в формате теоретических компетенций, без соответствующего эмпирического опыта, сопровождаемого формирующейся культурой, эмпатией, интуицией, харизмой, не сможет гарантировать избежания различных трудностей и барьеров, связанных, например, с проблемой идентификации публики. Так, в диссертационном исследовании Ю. В. Капустина, посвященном детальному анализу социальной функции музыканта-исполнителя, содержатся пояснения, подтверждающие обоснованность и объективность выдвинутого выше тезиса: «Зрелый артист интуитивно ощущает, какой контингент слушателей преобладает в данной аудитории, какой характер примет взаимодействие со слушателями данного концерта» [3]. А в одном из самых известных, широко цитируемых научных трудов современной отечественной психологии, посвященном анализу психологической стороны исполнительства, – в монографии Л. Л. Бочкарёва, – для описания данного процесса используется метафора «психологический резонанс». Обширная исследовательская практика и авторитет данного исследователя не позволяют нам сомневаться в справедливости и надежности выводов, сделанных Л. Л. Бочкаревым на основе анализа бесед с маститыми музы- кантами, которые их подтверждают: «Когда исполнитель ощущает контакт с аудиторией, когда слушатели становятся его партнёром и сотворцом, артист испытывает состояние творческого вдохновения, подъёма» [1].
Исполнитель – произведение. Данная коммуникативная система включает в себя ряд таких подсистем, как исполнитель – текст (нотный и/или словесный), исполнитель – композитор , исполнитель – эпоха ; исполнитель – язык (родной или иностранный).
Исходя из целостного и всестороннего анализа принципов организации и функционирования данных подсистем, складываются разнообразные оптимальные и альтернативные возможности выстраивания взаимоотношений (субъектно-субъектных или субъектно-объектных), обусловливающих, как результат, достижение оправданной или неоправданной интерпретации (в историкокультурологическом, художественном, технологическом и иных профессионально значимых контекстах). Очевидно, что успешная организация и функционирование данной системы в рамках непрерывного исполнительского процесса зависит от множества факторов, в числе которых, кроме уже вышеназванных, определенную роль начинают играть индивидуальные психологические характеристики (как, например, вид темперамента субъектов коммуникации) и некоторые другие, не менее значимые социальные факторы (например, школа с ее превалирующими традициями и тенденциями).
Исполнитель – концертмейстер. Взаимодействие с концертмейстером на этапе разучивания произведения и в ходе концертной практики является важнейшим типом коммуникации вокалиста (в данном случае речь идет, главным образом, о вокалистах академической традиции). От качества этого общения во многом зависит скорость и добротность разучивания материала, глубина понимания и конечный уровень концертного звучания произведения. В современной мировой практике концертмейстер – это не просто человек за инструментом, аккомпаниатор, выполняющий механическую работу, – это коуч, функционал которого обогащен расширенным перечнем узкопрофессиональных, гуманитарно-прикладных и междисциплинарных знаний и навыков, включает и психологическую поддержку вокалиста, заключающуюся в создании благоприятной психоэмоциональной и продуктивной атмосферы в пространстве класса или сцены, и знания, касающиеся анатомии вокального аппарата, технологий разрешения вокальных трудностей, методических особенностей освоения произведений того или иного жанра, и многое другое из указанных областей, позволяющих концертмейстеру быть в полном смысле со-творцом и педагогом одновременно. Разработка данной проблематики еще не достигла достаточной глубины, но в современной музыкальной педагогике уже состоялся ряд научно-практических исследований, посвященных этому вопросу [4].
Исполнитель – коллектив (в тех случаях, когда вокалист работает с хором и/или оркестром). Данный вид коммуникации не менее сложен, чем все вышерассмотренные. На первый взгляд может показаться, что хор или оркестр выполняют очевидную функцию инструментального сопровождения, мало отличающуюся от фортепианного аккомпанемента или «минусовки», однако это не так. Во-первых, подобный формат подразумевает существование каждого голоса в сложной полифонической структуре. Это, в свою очередь, требует от всех участников творческого процесса не только чистоты интонации каждого из голосов, но также соблюдения тембрального и динамического баланса, достигаемого путем кропотливой работы в ходе, как правило, многочисленных репетиций. Во-вторых, репетиционный процесс сам по себе – это крайне сложный этап подготовки концертного материала, а при возрастании количества участников возрастает и объем работы. Довольно часто в ходе репетиционной практики, даже на генеральных «прогонах» и на сводных репетициях, возникает необходимость обра-
L
щения к таким методам деконструкции, как работа с отдельными группами и партиями голосов или инструментов, многократные прохождения сложных частей произведения и многое другое. Кроме того, в данном формате неизбежно прямое взаимодействие с руководителями, оркестрантами и/или хористами. Вся совокупность многочисленных факторов условий требует от вокалиста высоких адаптивных способностей и стрессоу-стойчивости, без которых профессиональная коммуникация невозможна.
Исполнитель – исполнитель (дуэты, трио и другие виды ансамблевого пения) – это коммуникационная система, выстраивающаяся с учетом уровня профессионализма каждого из участников творческого процесса, их опыта, психологических, гендерных и многих других социальных характеристик и индивидуальных особенностей. Способность контролировать свои эмоции, умение выстраивать деликатные стратегии поведения, предупреждающие риск возникновения конфликта на почве недостатка признания, таланта, внимания и иных причин, все упомянутые ранее интеллектуальные проявления, составляющие метанавыки современного представителя индустрии музыкальной культуры, играют важнейшую роль.
В целом успешное функционирование в качестве активного субъекта в перечисленных основных системах коммуникаций требует от вокалиста соответствующей компетентностно-квалификационной подготовки, без которой творческий процесс рискует быть переполнен стрессом, депрессиями, внутренними и внешними конфликтами, зажимами, дилетантизмом, административноуправленческими и экономическими рисками и другими негативными явлениями, не совместимыми с целями и эталонными результатами профессионального пути в области вокального исполнительства, высокие требования которому задают – в то же время – кон-цептосферы музыкальной и коммуникативной культуры, исполнительского мастерства, профессионального артистизма и др.
Рассматривая специфику коммуникации в вокально-исполнительской деятельности в аспекте выявления сущности и структуры феномена «коммуникативная культура», нельзя не обратиться к лотмановской семиотической концепции, где семиосфера культуры рассматривается как диалогическое пространство вложенных друг в друга и сообщающихся друг с другом вторичных моделирующих систем. Первичной системой – по Ю. М. Лотману – является язык. Задачей культуры и искусства является не только накопление и хранение информации, но и поддержание диалога между людьми [6].
Проецируя идеи Ю. М. Лотмана на предмет нашего исследования, на вокальноисполнительскую деятельность, мы можем рассматривать вокал как особую музыкальноречевую систему, состоящую из множества материально выразимых и чувственно воспринимаемых знаков, обеспечивающих выстраивание и осуществление коммуникации между исполнителем и слушателем, исполнителем и композитором, а также в ряде других систем отношений, рассмотренных в рамках данной статьи.
Для типологизации факторов развития данной системы целесообразно провести их условное разделение на объективные и субъективные. Под объективными мы понимаем общую конъюнктуру: уровень культуры общества, в котором действует субъект отношений и с которым он себя ассоциирует, традиции, тенденции, тренды. Вторые же определяются индивидуальным компонентом: особенности психики, багаж знаний, уровень образования, опыт, таланты и способности, уровень профессиональной подготовки и пр. Схожий взгляд на проблему демонстрирует ряд исследователей в области философии культуры. Так, Ю. Б. Сетдикова в работе, посвященной эстетическим аспектам вокально-исполнительского творчества, приходит к следующему выводу: «Процесс передачи сообщения исполнителем и декодирования его в сознании слушателями можно определить как составляющие целостного единого процесса коллективного мышления. Исполнитель ищет истину и выражает ее именно «вслух», то есть посредством языка, в данном случае, вокального, приобретая концептуальные формы лишь тогда, когда художественный язык обладает возможностью суггестивного воздействия (внушения), в результате чего вокальное произведение обретает реальную, а не потенциальную художественно-эстетическую ценность» [11].
Исходя из приведенных данных, мы приходим к выводу о том, что коммуникативная культура современного вокалиста – это интегральный комплекс профессиональнозначимых компетенций теоретического и практико-прикладного значения, позволяющий исполнителю успешно функционировать в основных коммуникативных системах, выстраивать качественное взаимодействие со всеми участниками творческого процесса (коллеги, режиссеры, дирижеры, концертмейстеры, слушатели и так далее) и конструировать – с учетом выявленных смысловых и историко-культурных детерминант – «чи- таемый» смысловой и художественный образ того или иного музыкального произведения для адекватного восприятия публикой.
Этот аспект профессиональной творческой деятельности вокалиста-исполнителя, к сожалению, пока не получил должного научного обоснования актуальности обязательного включения в профессиональную подготовку по целому ряду профилей и специальностей и соответствующих административно-институциональных инициатив, направленных на комплексную разработку данной проблематики внутри музыкально-педагогического сообщества, обеспечивающего подготовку вокалистов к успешной интеграции в профессию [9]. Однако постановка проблемы, в общих чертах изложенная на страницах данной статьи, позволяет говорить о несомненной целесообразности и перспективности подобных исследований, направленных на совершенствование системы вокального образования в современных учебных заведениях среднего и высшего звена.