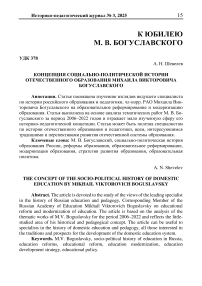Концепция социально-политической истории отечественного образования Михаила Викторовича Богуславского
Автор: Шевелев А.Н.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: К юбилею М. В. Богуславского
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению взглядов ведущего специалиста по истории российского образования и педагогики, чл-корр. РАО Михаила Викторовича Богуславского на образовательное реформирование и модернизацию образования. Статья выполнена на основе анализа тематических работ М. В. Богуславского за период 2006–2022 годов и отражает мало изученную сферу его историко-педагогической концепции. Статья может быть полезна специалистам по истории отечественного образования и педагогики, всем, интересующимся традициями и перспективами развития отечественной системы образования.
М. В. Богуславский, социально-политическая история образования России, реформы образования, образовательное реформирование, модернизация образования, стратегия развития образования, образовательная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/140312104
IDR: 140312104 | УДК: 378
Текст научной статьи Концепция социально-политической истории отечественного образования Михаила Викторовича Богуславского
Введение. Современная ситуация развития системы образования России может быть охарактеризована как предреформенная. Разработка стратегии развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года затрагивает все уровни системы, опирается на анализ ключевых и промежуточных вызовов и подвызовов/проблем в разных сферах образования. Основной принцип суверенности опирается при этом не только на изменения, связанные с технологическим прогрессом системы образования, но и с сохранением ее традиций и ценностей. Не случайно, одним из приложений проекта первичной редакции Стратегии (приложение 3) стал исторический обзор развития образования в СССР [Проект стратегии развития…, с.51–79]. Таким образом, способность нынешней государственной образовательной политики ответить на многочисленные вызовы к современному образованию нуждается в широкой исторической ретроспективе российского образовательного реформирования, а исследования социально-политического контекста истории отечественного образования становятся базой для выработки современных стратегических решений по развитию системы образования. Характер предстоящих изменений, их потенциальная направленность в социодинамике развития отечественного образования и составляет предмет изучения такой области историко-педагогических исследований, как социально-политическая история образования. Она включает историю обра- зовательной политики, реформирования, общественных реакций на образовательные нововведения, характеристику деятельности в образовании основных акторов/субъектов российского образовательного процесса – государства, общественности, профессионально-педагогического сообщества, педагогической науки, родителей и обучающихся.
Результаты исследования. Михаил Викторович Богуславский, 70-летний юбилей которого отмечается в этом году, является несомненным признанным лидером современного сообщества историков педагогики и образования России. Широкий круг его исследований связан, прежде всего, с историей российского образования 20 века, его первой трети в особенности. М. В. Богуславский также известен как видный методолог истории педагогики и образования, выдающийся ее популяризатор, историк-персоналист, исследования которого о деятельности российских педагогов и деятелей образования не имеют аналогов в сегодняшней педагогической науке ни по охвату, ни по способности к типо-логизации истории российской педагогической мысли по ведущим ее направлениям.
Ракурс социально-политической истории образования в его творчестве представлен масштабно, но рассматривается гораздо реже. Поэтому целью данной статьи является попытка систематизировать концептуальные основы, выработанные в творчестве М. В. Богуславского как историка образовательной политики.
Следует отметить, что социально-политическая история образования в последние 30 лет неоднократно становилась предметом пристального внимания историков и историков образования. Прежде всего, это исследования Э. Д. Днепрова, выполненные в большей степени на материалах дореволюционного и современного ее периодов. Диссертации А. Н. Шевелева, Р. В. Шакирова, А. Н. Позднякова, А. М. Аллагулова, охватывавшие значительный исторический период, а не отдельные реформы образования, также делались либо только на дореволюционном, либо только на советском (XX век) материале. Аналогичное замечание можно сделать и относительно фундаментальной «Истории русской школы» А. И. Любжина, которая концептуально пытается анализировать всю социально-политическую и педагогическую историю отечественного образования, но делает это все-таки лишь на дореволюционной базе [Шевелев А. Н. Взаимодействие государства и общества как фактор формирования государственной образовательной политики России 60-80-х годов XIX века // дисс…канд. пед. н. Санкт-Петербург, 1996; Шакиров Р. В. Системноконцептуальный анализ реформ общего среднего образования в России в XX веке // дис.. докт. пед. н. Казань, 1997; Поздняков А. Н. Государство и общество в реформировании российского школьного образования: исторический опыт взаимодействия в конце XIX – начале XXI веков // дисс… докт. ист. н. Саратов, 2005; Аллагулов А. М. Влияние педагогической науки на становление образовательной политики в России во второй половине XIX – начале XX века // дисс…докт. пед. н., Оренбург, 2014]. Поэтому, когда в работах М. В. Богуславского делается попытка концептуального осмысления всего социально-политического генезиса российского образования последних трех веков, этого нельзя не приветствовать, понимая актуальность, сложность и назревший характер такой исследовательской задачи. Задачи понимания того, что происходило и происходит с отечественным образованием на научных основах и как исследовательского проекта для будущего.
Методы исследования. Основным исследовательским методом для статьи стал историографический анализ, позволивший проследить эволюцию взглядов юбиляра на образовательное реформирование России и выделить в них концептуальное ядро. При подготовке данной статьи были проанализированы 13 статей М. В. Богуславского разных лет (с 2006 по 2022 годы), посвященных рассматриваемой теме [Комплекс…]. Частота обращения М. В. Богуславского к социально-политической истории российского образования составляет в среднем одну ежегодно выпускаемую тематическую статью, за исключением 2014 года, когда им было опубликовано сразу 5 статей в разных изданиях. Также выделяются три ведущих направления исследований М. В. Богуславского в области социально-политической истории российского образования:
– реформирование в истории отечественного образования в его единстве (макрореформирование);
– современная модернизация российского образования как образовательная стратегия на основе традиций (актуализация истории педагогики);
– методология образовательного реформирования (ретроинновации и инновации, вестернизация и традициология образования).
В первой статье «Реформы российского образования XIX–XX веков как глобальный проект» (2006) М. В. Богуславский сразу отмечает сформировавшуюся исследовательскую традицию парного рассмотрения образовательных реформ, неизбежность проведения стабилизирующих контрреформ вслед за реформами. Однако, он отказывается от их жесткого противопоставления по принципу прогрессивности и реакционности (Э. Д. Днепров), ставя вопрос о границах самой реформы образования и контрреформы как реакции на нее, а также о правомерности такого восприятия контрреформ. По сути, его трактовка заключается в возможности определять «контрреформы» самостоятельными примерами образовательного реформирования. М. В. Богуславский говорит о контрреформах как основанных на традициях, национально-православных ценностях, стремившихся ориентироваться на государственный централизм управления образованием и сословность, в отличие от Э. Д. Днепрова, для которого признаками подлинной реформы явля- лись ее прогрессивность, демократическая направленность, автономия школы и ее всесословность.
В этой статье М. В. Богуславский конституирует модернизационный подход, привнесенный в историю педагогики из политологии, предлагая разделение реформ образования на догоняющие и защитные. При этом, говоря о защитных реформах, им почему-то применяется эпитет «запоздалые», что видимо означает их последующий за догоняющей реформой характер.
Далее в своей статье М. В. Богуславский декларирует преимущество целостного исследования всего процесса образовательного реформирования, а не его отдельных звеньев: «Несмотря на то, что процессы осуществления образовательного реформирования имеют свою традицию исследования, в работах все же преобладает конкретный подход к трактовке каждой из реформ или их комплекса, осуществляемого на протяжении определенного времени (десятилетиями или годами – Ш. А.). Мы пытаемся взглянуть на реформирование образования как на единый процесс…» [Богуславский, 2006].
Представляется, что это назревшая и необходимая попытка рассмотреть реформирование российского образования, его модернизацию, через образовательную политику на протяжении дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Характерно, что эта попытка впервые делается М. В. Богуславским в 2006 году, после инверсии педагогического сообщества страны между дореволюционными ретроинновациями 1990-х и зарубежными педагогическими образцами. Стоит также вспомнить, что именно М. В. Богуславский еще в своих работах 1990-х годов говорил о первой трети XX века как педагогически едином периоде в развитии отечественного образования, когда многие изменения в школьном деле, сделанные Советской властью на раннем этапе, имели под собой мощную выработанную в канун 1917 года основу. Прежде всего, это касается проекта школьной реформы П. Н. Игнатьева 1916 года.
Интересен, хотя и не бесспорен, и дальнейший тезис М. В. Богуславского: «Представляется, что реорганизации в сфере образования в XVIII – первой четверти XIX века нельзя трактовать как реформы. Речь тогда шла о создании основ системы российского образования. Однако несомненно, что радикальные реформы, начатые Петром I, привели к кардинальной трансформации педагогических традиций» [Богуславский, 2006, с. 22].
Во-первых, М. В. Богуславский вводит в научный оборот сразу две промежуточные категории «реорганизации» и «кардинальной трансформации» применительно к изменениям в образовании. Если светской школы при Петре Великом в России не было, то что тогда реорганизовывалось? Во-вторых, если можно говорить о радикальных реформах Петра в других сферах (военной, административной, социальной), то почему надо отказывать в реформаторском характере образованию? Петровские и екатерининские трансформации образования стали неудачной попыткой построения в России светской школы для каждого сословия. Но уже александровская «реформа» 1804 года базировалась на принципе всесословно-сти образования, в противном случае, контрреформа 1828 года, выстроенная на противоположных сословных основаниях, оказалась бы не нужной.
При этом М. В. Богуславский не дает точного определения реформы образования в сравнении с категорией образовательной политики, что влечет ряд методологических вопросов:
– является ли реформой неудачная попытка фактических изменений в образовании;
– относимы ли к реформе в образовании ее проекты, если они не были осуществлены (пример Игнатьевской реформы 1916 г.);
– являются ли реформой явные изменения в педагогической сфере страны, когда ее целостная система образования еще не сложилась (XVIII век);
– является реформой одномоментное важное преобразование (например, Болонский процесс в России), касающееся только одной сферы всей системы образования или реформой можно считать только длительно (например, десятилетиями) осуществляемые изменения системы, имеющие всеобъемлющий для всех уровней образования характер;
– можно ли определять принадлежность к группе образовательных реформ в зависимости от глубины и степени исторической про- лонгации (исторических последствий, определивших облик системы образования на длительную историческую перспективу) происходивших образовательных изменений?
Далее М. В. Богуславский расширяет перечень категорий-метафор, с помощью которых можно описывать изменения в образовании. «Реорганизация» и «кардинальная трансформация» теперь дополняются в его статье с «системой мер»: «Первая фундаментальная система мер в сфере просвещения была осуществлена в начале XIX века ближайшими соратниками Александра I М. М. Сперанским и В. Н. Каразиным» [Богуславский, 2006, с. 22]. М. В. Богуславский явно осознанно не употребляет термин «реформа» применительно к александровской эпохе начала XIX века, развивая предыдущий тезис отказа образовательной политике Петра I, Екатерины II и Александра I в реформаторском характере. При этом, система образования в общих чертах в России уже сложилась, а важнейший признак системы – орган управления ею в виде Министерства – появился. Некоторое сомнение вызывает и особая роль именно Сперанского и Каразина. Но ничего не говорится о Н. Н. Новосильцове, П. В. Завадов-ском и А. К. Разумовском как авторах этих мер.
Определенные размышления вызывает и следующий постулат М. В. Богуславского: «В конце 1820х годов – в 1850-е годы была проведена первая консервативная контрреформа системы образования» [Богуславский, 2006, с. 23]. Учитывая столь длительный срок, отводимый
М. В. Богуславским на консервативную реформу образования (включавшую представлявшиеся другими исследователями как отдельные реформы 1828, 1835, 1849 годов), можно сделать вывод, что под реформой и контрреформой им понимается значительный, но однородный по содержательной направленности период реализации государственной образовательной политики.
«Кардинально новое положение с реформированием сферы образования сложилось во второй половине XIX века» [Там же, с. 24] … В целом вторая половина XIX века вошла в историю реформ как время завершения становления системы российского образования» [Там же, с. 36], – постулирует М. В. Богуславский далее. Итак, он принципиально отличает период второй половины XIX – начала XX веков от предшествующего периода, когда происходило становление (1700–1828) и стабилизация (1828–1855) возникшей российской системы образования. Содержание статьи показывает, что именно участие в реформировании образования общественности и составляет главное отличие этого периода.
Согласно М. В. Богуславскому, становление российской системы образования заняло около 200 лет, завершившись только к началу XX века. Такое длительное историческое развитие было связано и с отсутствием допетровской традиции светской школы, и с сословным характером российского социума, активное разрушение которого нача- лось только после отмены крепостного права. Напрашивается дальнейший вывод о том, что, не успев сложиться как система образования сословного общества (при активной поддержке государством такого курса), российская школа сразу устремилась к единой школе советского времени, что вряд ли было подготовлено исторически.
«Государство, общество и церковь активно действовали на протяжении всей второй половины XIX века, их влияние на преобразования не были равномерны. В конце 1850 – в 1860-е годы лидирующую роль в образовании играло общественное воздействие, в 1870-е годы – государственное, во второй половине 1880-х – в 1890-е годы – церковное» [Богуславский, 2006, с. 25]. Прокомментируем этот тезис М. В. Богуславского. В образовательной политике России второй половины XIX века он выделяет подпериоды, когда деятельность разных субъектов по развитию образования играла доминирующий характер (общество, государство, церковь). При этом, стоит отметить, что, как в государственном руководстве, так и в общественно-педагогическом движении выделялись направления, совершенно по-разному рассматривавшие перспективы развития отечественного образования. Насколько возможно провести четкий водораздел в каждый подпериод между доминированием каждого субъекта? И те, и другие действовали одновременно, противостояние велось между государством и обществом в целом, и внутри них. Скорее, деятельность государства в образовании происходила на фоне более или менее четко выраженных общественных инициатив и реакций, что дает возможность говорить о различных вариантах взаимодействия государства и общества в образовании на каждом этапе.
Далее М. В. Богуславский усиливает высказанную ранее позицию, говоря, что «Главное содержание государственной политики в начальной школе состояло в возможной ее передаче под контроль церкви» [Там же, с. 34]. Что же касается деятельности церкви по созданию церковноприходских школ и возможному контролю над всей начальной школой в царствование Александра III, то указанные попытки Синода были блокированы именно высшими государственными органами (Государственный Совет, Комитет министров) и, в конечном счете, решением самого императора [Шевелев, 2000]. Остается открытым и вопрос о том, насколько Русскую православную церковь Синодального периода можно считать самостоятельным от государства субъектом развития образования или лишь его составной частью?
«Другая (либеральная – Ш. А.) политико-образовательная парадигма олицетворяла также объективно необходимую тенденцию реформирования и модернизации сферы образования» [Богуславский, 2006], – пишет М. В. Богуславский. Итак, по его мнению, отличавшая новый период образовательного реформирования либеральная политико-образовательная парадигма противоборствовала консервативной, но обе они были необходимы для стабильного развития национальной системы образования. Использования им категорий «реформирование» и «модернизация» образования показывает их различение.
Согласно трактовке М. В. Богуславского, проводимая модернизация страны в целом и ее образовательной системы в частности, не должна была приводить к нестабильности государства, как под воздействием внешних (отставание страны в конкуренции с другими), так и внутренних (вызванная ускоренным развитием доступного образования нестабильность в социуме) последствий модернизации образования: «Вся политика самодержавия в области народного образования во второй половине XIX века была направлена на поиск его оптимального варианта (для кого – Ш. А.), то есть гарантирующего возможность модернизации страны при сохранении стабильности государства» [Богуславский, 2006, с. 26].
Завершая анализ дореволюционного образовательного реформирования второй половины XIX – начала XX веков, М. В. Богуславский делает следующий вывод: «Государственная образовательная политика не дала ни обратить образовательный процесс вспять, в дореформенный период, ни проводить курс на быстрое (излишне быстрое – Ш. А.) развитие образования без учета реального состояния российского традиционно-аграрного социума» … В целом попытка правительства, видевшего в развитии образования и расширении его доступности главную угрозу государствен- ным устоям, оказалась недальновидной. Как показали события 1917– 1920 гг., именно необразованные и полуобразованные массы стали опорой революционеров, а образованные граждане выступили в защиту российской государственности» [Там же, с. 27].
Отнесемся к указанному выводу. Мысль М. В. Богуславского о возможности возврата к уваровской гимназии образца 1835 года в чистом виде представляется несколько спорной. Согласно взглядам А. И. Любжина, близкие хронологически, но отличные содержательно и темпорально понимания классического образования С. С. Уварова, А. В. Головина и Д. А. Толстого, представляли три возможных пути развития гимназического образования в России, при этом вариант Уварова был срединным между полюсами классицизма и реализма.
Что же касается реформирования начального образования, то возврат его в дореформенное время был невозможен за практическим отсутствием этой сферы образования как таковой в канун 1861 года. Начальное народное образование получило резкий всплеск именно после реформы 1864 года, развиваясь прежде всего за счет усилий земств и городских дум страны, то есть за счет общественной инициативы. Общественность предлагала разные варианты народной школы, как с большим прикладным, так и общеобразовательным компонентом. Последний, казавшийся более демократичным вариант возобладал в общественном сознании к 1917 году. Но оба варианта исходили из широкой доступности начальной школы для народных масс. Политика же правительства заключалась в жестком социальном отделении народной начальной школы от педагогической образцовой школы средней, вплоть до 1912 года, когда высшие начальные училища, выросшие из городских (1872 года), стали быстро сближаться по предоставляемому содержанию образования со средней школой. Что и предопределило педагогические идеи единой российской школы, проявившиеся в нереализованном проекте школьной реформы 1916 года.
Рассмотрим дальнейший тезис М. В. Богуславского: «Поэтому во второй половине XIX века не было единой стабильной государственной политики в сфере образования. Ее и не могло быть…менялись политические курсы» [Богуславский, 2006, с. 27]. В этой связи перспективен вопрос, насколько исторически длительным может быть проведение любого политико-образовательного курса? Иначе говоря, через какое время имеет смысл ожидать его существенных изменений? Образованию противопоказаны как «шараханья» в зависимости от смены общеполитического курса, так и долговременная стагнация, отрицающая изменения. М. В. Богуславский совершенно прав, ставя вопрос о зависимости образовательной политики и общеполитического курса в стране. Но рассмотрение всего периода второй половины XIX – начала XX века в целом, а не как совокупности реформы 1864, контрреформы 1871 и несостоявшейся, но долго подготавливаемой реформы 1916
года, показывает, что само по себе образовательное реформирование является наиболее проявленным инструментом образовательной политики.
«В целом курс реформирования российского образования пролегал (в этот период – Ш. А.) в русле эволюционного развития», – констатирует М. В. Богуславский, с чем, конечно, нужно согласиться [Богуславский, 2006, с. 28]. «А. В. Голо-вин…реформатор, начавший масштабную модернизацию российского образования», – констатирует он [Там же]. Итак, образовательная реформа 1864 года М. В. Богуславским воспринимается как начало модернизации образования, нежели просто как одна из двух реформ (1864 и 1871). Действительно, сложившаяся тогда система из гимназий и реальных училищ просуществовала до 1917 года, несмотря на то, что уже в конце XIX века Н. П. Боголепов и его преемники начали подготовку к ее реформированию. Но вопрос так и не был решен вплоть до проекта школьной реформы графа П. Н. Игнатьева, несмотря на многочисленные подступы к нему на высшем государственном уровне.
Что же в суммарном итоге касательно дореволюционного периода развития российского образования дают работы М. В. Богуславского? Комплекс его взглядов можно свести к 10 основным тезисам:
-
1. Реформы российского образования перспективно рассматривать как целостное единство.
-
2. До 1804 (либо 1828) считать меры государственной образовательной политики реформами образования нельзя.
-
3. Под реформой образования скорее следует понимать длительный период реализации однородной содержательно государственной образовательной политики, растянутый на несколько десятилетий.
-
4. Контрреформы образования имеют свою не менее значимую функцию для его развития, как и реформы, поэтому их противопоставление не дает должного исследовательского эффекта.
-
5. Система российского образования сложилась окончательно только к началу XX века.
-
6. Со второй половины XIX века началась не просто очередная реформа образования, но его глубинная модернизация, обеспечившая развитие отечественного образования вплоть до 1917 года. Реформирование образования как содержательная категория имеет меньший масштаб, чем модернизация образования.
-
7. Задачей государства была модернизация образования при сохранении его (образования и страны в целом) стабильности.
-
8. Русская православная церковь – самостоятельный субъект развития российского образования, наряду с государством и обществом, которые лидировали на разных этапах образовательных реформ.
-
9. Политика самодержавия в образовании второй половины XIX – начала XX веков представляется понятной, но недальновидной в исторической перспективе.
-
10. Государственная образовательная политика зависит от общего политического курса, что делает реформы образования вторичными и, возможно, запаздывающими относительно реформирования и модернизации других социально-политических сфер.
Характеризуя первую советскую реформу образования 1918 года, М. В. Богуславский рассматривает ее как «…кардинальное преобразование системы просвещения, утверждение в качестве доминирующей парадигмы трудовой школы» …В результате при всей своей прогрессивности, «новая философия образования», в основу которой была положена педагогика развития личности, в тех исторических условиях, привела к дестабилизации системы просвещения» [Богуславский, 2006, с. 33].
Таким образом, М. В. Богуславский констатирует глубину замысла планируемой образовательной реформы 1918 года, основанной на прогрессивных педагогических идеях дореволюционного периода и европейско-американского варианта «Нового образования». При этом, такой радикально-революционный подход вел к разрушению школы как привычной обществу социальной институции, не давал государству хорошо подготовленных квалифицированных специалистов, столь необходимых народному хозяйству. Да и организованная педагогически воспитательная работа по обеспечению идеологической лояльности молодежи гораздо эффективней могла централизованно проводиться в привычных школьных рамках, нежели в режиме широкого педагогического эксперимента. Все эти резоны привели к возвращению традиционной «школы учебы» в ходе стабилизирующей контрреформы 1931–1936 годов. М. В. Богуславский убедительно показывает более раннее (уже во второй половине 1930-х годов), чем принято считать (в военные годы – Ш. А.), возвращение образовательной политики к дореволюционным образцам, вплоть до планов преподавания в советской школе латыни.
И на этом примере методология анализа образовательного реформирования строится М. В. Богуславским на разделении реформ на стабилизационные и кумулятивноразвивающие (объективно дестабилизирующие систему). Остается лишь вопрос о том, какие силы стоят за тем и другим видом образовательного реформирования? Разве не само советское государство в 1920-е годы стимулировало столь радикальные преобразования, впоследствии от них отказавшись и вернувшись к более привычным социуму и педагогическому сообществу вариантам?
«К середине 1950-х годов в развитии советской школы все более явственно проступали черты стагнации», – отмечает далее М. В. Богуславский [Богуславский, 2006, с. 34]. Столь короткий исторически срок действия стабилизирующей реформы середины 1930-х годов, даже со скидкой на военные годы, когда реформа по сути продолжалась, оставляет множество гипотез о причинах стагнационных процессов в советском образовании. Попытки возврата к педагогической идеологии 1920-х годов, называемых М. В. Богуславским «контрапунктами» к 1958 году (школьная учеба, соединенная с производительным трудом, введение профессиональнотехнических училищ вместо ремесленных, курс на всеобщее среднее образование), позволяют искать объяснение в доминировавшем общеполитическом курсе Н. С. Хрущева и новых реалиях соперничества геополитических систем в условиях научно-технической революции, нежели в собственно педагогическом обосновании новой реформы. Именно поэтому М. В. Богуславский фиксирует отсутствие кардинального противопоставления образовательной реформы 1958 года и стабилизационной контрреформы второй половины 1966–1984 годов. Шла модернизация системы образования без осуществления «педагогической революции»: сохранение школы учебы с несколько измененным содержанием образования; появление школ с углубленным изучением предметов, внедрение первичной компьютеризации образования, изменение профессионально-технического образования как особого маршрута получения профессии и полного среднего общего образования.
Оценивая этот процесс в целом как позитивный, но не реализованный полной мере, М. В. Богуславский гораздо менее позитивно оценивает реформу образования 1988–1992 годов: «В целом реформа 1990-х годов привела к серьезной дисгармонии в организации и мате- риальном обеспечении учебно-воспитательного процесса» [Богуславский, 2006, с. 36]. Его вывод о проведении кумулятивно-развивающей образовательной реформы без соответствующего обеспечения ее условий и вызвал необходимость возвращения государства в образование после 2000 года.
Нельзя не согласиться с общим выводом М. В. Богуславского, завершающим эту его программную статью и перебрасывающим мостик к разрабатываемой им в дальнейшем теории образовательной модернизации, который заключается в следующем: «Главное (в развитии образования – Ш. А.) заключается не в мероприятиях и качестве организационно-финансовых и программных материалов, а в определении тех базовых ценностей, вокруг которых могли бы сплотиться основные субъекты педагогического процесса» [Там же, с. 37].
В 2013 году М. В. Богуславский в программной статье «Стратегии модернизации российского образования XX века: теоретико-методологические подходы к исследованию» М. В. Богуславский обратился к достаточно подробному рассмотрению и ранее использовавшейся им категории «модернизации образования», которая «…понимается как процесс формирования в системе образования способности постоянно и успешно адаптироваться к меняющимся условиям и задачам, создавать новые образовательные институты, модифицировать старые, формируя каналы эффективного диалога между обществом и государством, развивая новый демократический тип взаимодействия в сфере образования» [Богуславский, 2013].
Модернизация образования понимается им в двух ипостасях:
– как часть общих эволюционных изменений в различных областях жизнедеятельности социума («осовременивание» экономики, гражданского общества, государственного устройства, культурной сферы);
– как мощный исторический рывок, связанный со стремлением ликвидировать отставание страны в одной или нескольких сферах жизни.
Кроме того, М. В. Богуславский отмечает линейно-историческое (переход от традиционного к современному), ментальное (сдвиги в общественном сознании и культуре общества) и «культуртрегерское» (взаимодействие цивилизаций) измерения модернизации общества и, в частности, образования.
Таким образом, речь идет об эволюционной (непрерывной) и догоняющей (рывковой) модернизации, что применительно и к модернизации образования.
В своем понимании модернизации образования М. В. Богуславский отказывается от одностороннего ее видения как восходящего линейно-поступательного перехода к более высоким (демократизация, единство общественного развития для всех национальных систем образования, но в разном темпе) историческим образцам. Уже в 2013 году он говорит о возможной обратимости, вариативности и даже тупиковости модернизационных переходов, о модернизации как продолжительном этапе борьбы разных ценностных систем в основе образовательных моделей проектируемого будущего, о возможных стагнационных рисках модернизации.
Замечателен примененный неоднократно М. В. Богуславским образ модернизации образования как циклически-волновом процессе. Его классификация модернизационных процессов (первично-спонтаннооригинальная, вторично-догоня-юще-заимствованная, конфликтно-частично-сосуществующая) дополняется аналогиями из физики волн, позволяющей говорить об отраженно-возвратной модернизации образования. Можно дополнить этот образ интерференцией (наложением) модернизационных волн. Также говорится об обязательном присутствии в канун модернизации кризиса, дестабилизации системы образования.
Наиболее существенен и примененный им момент соотнесения «инновационных циклов и ретроин-новационных волн», развитый в дальнейшем в статьях 2022 года [Богуславский, 2022] . Случайно ли такое отнесение циклов к инновациям в образовании, а волн - к ретроинновациям?
М. В. Богуславский вводит в оборот рядоположенную категорию стратегии модернизации образования, которая понимается им как «…установленная на длительный период совокупность норм деятельности по достижению заданных показателей, обеспечивающих государству и обществу конкурентоспособность образования на основе ключевых традиционных преимуществ национальной педагогики»... Стратегия модернизации образования - высший уровень процессов реформирования образования, генеральная программа его развития» [Богуславский, 2013].
Таким образом, модернизация образования представляет, согласно трактовке М. В. Богуславского, по-разному планируемую цель и достигаемый результат изменений в образовании, стратегия модернизации -концептуально-идеологическое средство, с помощью которого эти изменения производятся, а реформа образования - их организационноисторический формат. В этом случае реформирование образования должно пониматься как комплекс проводимых в разных областях системы образования отдельных реформ (глубина реформаторского охвата системы), а дуализм реформ и контрреформ выступает другим, функциональным измерением образовательного реформирования (изменение или стабилизация системы образования).
В середине 2010-х годов теории стратегического управления были необычайно популярны. М. В. Богуславский также использует категорию «стратегии развития образования», понимая ее как «официально признанную систему стратегических приоритетов, целей и мер в сфере образования, констатирующих состояние системы российского образования и определяющих основные направления ее развития на долгосрочную перспективу» [Богуславский, 2013, с. 6]. Таким обра- зом, стратегический характер (долговременный, признанный и обоснованный, выделяющий приоритеты) есть и у стратегии модернизации образования, и у стратегии развития образования, и у стратегии управления образованием. Строгое научное применение указанных категорий к каждому историческому этапу образовательного реформирования – дело будущих исследований, но иерархия модернизации, развития, реформирования, реформы и управления образованием представляется в концепции М. В. Богуславского очевидной. Это пирамида глубинных и сущностных трансформаций системы образования, более кратковременных и частичных ее изменений в соответствии с долгосрочной программой или вне ее, и неизбежного текущего функционирования системы под влиянием объективных и субъективных частных факторов.
Всплеск числа статей М. В. Богуславского, посвященных социально-политической истории российского образования, произошел в 2014 году. Говоря об актуализации российского опыта образовательного реформирования для современного его этапа, он в статье «Современная модернизация российского образования: историко-педагогический контекст XIX – начала XXI веков» акцентирует внимание на взаимодействии вестернизаторской и традиционно-консервативной политико-образовательных парадигм. Первая, по его мнению, оказалась исчерпана к 2012 году, вторая только набирает силу, приобретая характер возвратной ретроинновационной модернизации образования. Чертами такой модернизации выступают усиление государственного регулирования в образовании, его централизация и унификация, снижение вариативности и роли других субъектов развития образования, помимо государства.
М. В. Богуславский сразу указывает, что «наиболее плодотворно эти проблемы (модернизации российского образования – Ш. А.) рассмотрены в комплексе фундаментальных трудов академика РАО Э. Д. Днепрова» [Богуславский, 2014] . При этом он отмечает необходимость существенной корректировки методологии и выводов Э. Д. Днепрова относительно характера отечественного историко-образовательного процесса XVIII – начала XXI веков. Прежде всего это касается негативных трактовок российского образовательного контрреформирования, жесткого противопоставления прогрессивных реформ и реакционных, тормозивших развитие образования контрреформ. Говоря об одномерной трактовке отечественных реформ образования Э. Д. Днепрова, М. В. Богуславский заявляет о необходимости создания многомерной модели политико-образовательного процесса, когда «контрреформы» также имеют реформаторский характер, но в основе своей строятся на основе национальных традиций, «имманентно присущих отечественной педагогике» [Богуславский, 2014, с. 44].
Применительно к прошлому, позиция М. В. Богуславского заключается в обязательном придании российским реформам образования ве-стернизаторского, догоняющего и заимствующего чужие педагогические образцы характера, а контрреформам – стабилизирующего и национально-консервативно-традиционного. К первой группе им относимы реформы 1920-х, конца 1950 – первой половины 1960-х, начала 1990-х годов, ко второй – 1930-х и второй половины 1960-х годов.
Насколько применима такая трактовка ко всем отечественным реформам образования во всем их конкретном содержании? Думается, что определенный оценочный дуализм реформаторской вестернизации и консервативного традиционализма не исчерпывает всех возможностей заявленной М. В. Богуславским многомерной модели. Достаточно дополнить ее полярностью взаимодействия государства и общества в развитии образования, когда государство выступало активным «вестернизатором» (XVIII – начало XIX веков, 1920-е годы), чтобы стройная теоретическая концепция перестала объяснять многие важные для отечественного образования политические события. Другим ракурсом могут выступать хронологическая продолжительность образовательных реформаций (от кратких и локальных для отдельных звеньев системы образования до долговременных и всеобъемлющих) или поляризация условий, в которых велась подготовка образовательных реформ (от широкого их подготовительного обсуждения – до подготовленного в узких правительственных кругах их административно-директивного внедрения).
В любом случае, категории реформы, модернизации и стратегии развития образования становятся для работ М. В. Богуславского основополагающими. Осуществленная им «реабилитация» консервативнотрадиционного направления в социально-политической истории российского образования представляется совершенно правомерной и существенно дополняющей ее поли-субъектную картину, свойственную и государству, и общественно-педагогическому движению в дореволюционный период. Внутри вестерни-заторской и консервативно-традиционной парадигм выделяются умеренные и радикальные направления и их авторитетные представители. Этот тезис согласуется с мнением М. В. Богуславского: «Вместе с тем в истории российского образования осуществлялись модернизации, построенные на синтезе ценностных оснований двух охарактеризованных стратегий (вестернизаторской и традиционно-консервативной – Ш. А.)» [Богуславский, 2014, с. 46].
Другим важным методологическим нововведением М. В. Богуславского, выраженным в работах 2014 года, является мысль о волновом характере образовательной модернизации, о циклах ее ускорения и замедления. Современный российский образовательный неоконсерватизм представляет, по его мнению, длительный цикл развития системы, повторяющий наследие аналогичных циклов дореволюционного и советского периодов. Такая повторяемость создает потенциал «ретросказуемости» (термин М. В. Богуславского – Ш. А.) в общей парадигмаль-ной рамке образовательных вестернизации и ориентализма: «В целом можно констатировать, что российская система образования развивалась в русле западного цивилизационного пути, время от времени переживая ориенталистские периоды» [Богуславский, 2014, с. 47]. Иначе говоря, вестернизаторские и ориен-талистские циклы можно прогнозировать, что М. В. Богуславский блестяще подтвердил, спрогнозировав еще в 2012–2014 годах возможность возврата полного пакета ретроинноваций из образовательного наследия позднего СССР.
«Отсутствие традиций гражданского общества в России сказывались на незавершенности, поверхностности всех предпринимаемых реформ российского образования», – констатирует М. В. Богуславский в той же статье 2014 года [Там же]. Хотелось бы отметить, что говорить о полном отсутствии такой традиции вряд ли однозначно возможно применительно к дореволюционному периоду 1855–1917 годов. Скорее, речь идет о слабости и краткосрочности исторического формирования такой традиции. Общественно-педагогическое движение по сути заложило основы начального общего, женского общего, профессиональнотехнического образования дореволюционной России, а также внешкольного образования взрослых, сыграло немалую роль в становлении постдипломного педагогического и негосударственного высшего образования к началу XX века. Теоретическая и экспериментальная подготовленность советской школы к реформе в предреволюционный период представляется очевидной, прежде всего в идеях всеобщности образования и единой школы, а также в постепенно вырабатываемом тогда эффективном взаимодействии государства и образованного общества по образовательным вопросам. Именно последний аспект и отличает принципиально дореволюционный и советский периоды в истории российского образования.
Чрезвычайно перспективной видится идея М. В. Богуславского об образовательном реформировании в России в аспекте взаимодействия педагогических культур разных стран. Доказывая преимущественный характер влияния на Россию европейской (западной) педагогической цивилизации, он иллюстрирует этот тезис примерами воздействий на российскую образовательную политику шведско-протестантской модели в петровскую эпоху, французско-швейцарской и австро-венгерской – в екатерининскую и александровскую, прусской – на протяжении всего XIX столетия, английской и французской образовательных моделей – в начале XX века, американской модели Д. Дьюи – в ранний советский период. Вряд ли имелись в виду только прямые заимствования и бездумное копирование зарубежных образцов, скорее, речь шла о более сложных каналах взаимодействия педагогических культур, основанных на выработанных их историей педагогических традициях. Суммарно, для М. В. Богуславского славянские и православные воспитательные традиции России, уходящие корнями в допетровскую эпоху, совмещались с многократными и разнообразными вестернизаторскими прививками, ориентированными в основном на сферу обучения и являвшимися непременным компонентом образовательного реформирования и модернизации образования.
Таким образом, для М. В. Богуславского «стратегичность» выступает комплексной характеристикой, применяемой к процессам образовательного развития, реформирования и модернизации. Стратегичность характеризует максимальный охват изменениями основных звеньев системы образования и их целенаправленность и спланирован-ность. При этом модернизация образования имеет гораздо больший масштаб, нежели образовательное реформирование и отдельная реформа, и, тем более, развитие образования, которое имеется практически всегда и выступает как синоним постоянных, частных и порой случайных изменений в образовании.
В заключении, хотелось бы остановиться на еще одной статье М. В. Богуславского «Трансформация идеологии реформ российского образования в 1991–2021 гг.: модернизации и ретроинновации (2022). Хотя, судя по названию, она посвящена именно идеологическим условиям, обеспечивающим современное образовательное реформирование, она имеет программный характер и касается всего отечественного реформационного процесса. В ней конституируется волновой его характер (большие и малые сдвиги, откаты, появление нового рельефа системы образования). Например, современные изменения в образовании последнего тридцатилетия М. В. Богуславский трактует как единый инновационный цикл, внутри которого возникают и 3–5 ретроинновацион-ные (возвратные) волны, представляющие собой стабилизирующие реакции системы образования и общества в целом на инновационные изменения. Становление новейшей системы образования в постсоветской России в 1990-е годы на вестерниза-торской, неолиберальной идеологической основе, стабилизируется ре-троинновационными возвращениями опыта дореволюционной (в 1990-е) и советской школы (2010– 2020-е) годов. Причем, если 1990-е годы были временем становления принципиально новых оснований системы образования, а 2000-е годы – временем ее комплексной модернизации, основанной на сочетании неолиберальной и консервативнотрадиционной идеологии, то 2010-е годы – эпохой необходимого эволюционного стабилизационного курса уже на основе традиций. Внутри самих ретроинновационных волн М. В. Богуславский выделяет системообразующие характеристики, отличающие специфику каждого этапа (два этапа в 1988–1992 и 1992–2000 годы, три этапа в 2000–2012, 2012– 2019, 2019–2022 годы).
Иначе говоря, периодизация образовательного реформирования в трактовке М. В. Богуславского выходит на более высокий уровень его (реформирования – Ш. А.) обобщения через увязывание каждого этапа с его идеологическими основаниями, что придает процессу в целом осознаваемый и понимающий характер. Достаточно смелое заявление М. В. Богуславского о том, что «Этого (ретроинноваций, возвратных модернизаций – Ш. А.) нет больше ни в одной национальной педагогике, что обусловлено очень насыщенной и сложной историей нашего социума», конечно, требует дальнейшей подробной разработки, но в целом, представляется достаточно правдоподобным, по крайней мере, применительно к частоте рассматриваемого феномена [Богуславский, Трансформация …, 2022]. М. В. Богуславский говорит о первой «дореволюционной» и второй «позднесоветской» ретроинновационных волнах 1990-х и 2013–2019 годов, прогнозируя в 2020-е годы третью, «перестроечную» ретроинновацион-ную волну, основанную на стремлении к свободному педагогическому творчеству, авторским школам и, в целом, противостоящую централиза-торским и унификационным интенциям предыдущей волны.
Таким образом, именно рассмотрение М. В. Богуславским образовательной современности (образовательной новистики) как единого инновационного цикла, сочетающего на каждом своем этапе зарубежные педагогические заимствования и попытки широкого использования отечественного историко-образовательного опыта, имеющими в основе своей разные политико-педагогические ценностно-идеологические парадигмы (вестернизации и традиционализма), позволяет сделать вывод о тупиковом характере достаточно популярного и широко распространенного в педагогическом сообществе последних десятилетий жесткого противопоставления инновационного вестернизаторского курса любым традициям. М. В. Богу- славскому удалось обосновать инновационный потенциал комплексного использования педагогических традиций на новом историческом этапе.
Заключение. Попытаемся суммировать изложенное. Работы М. В. Богуславского (2006–2022 годов), посвященные социально-политической истории отечественного образования, представляют целостную концепцию. Ее основные постулаты заключаются:
– в обосновании именно целостного, на протяжении длительного исторического периода, подхода в противовес дискретному/кон-кретному применительно к пониманию реформирования и модернизации отечественного образования;
– в определении образовательного реформирования как длительной и однородной государственной образовательной политики в противовес отдельным и слабо объясняющим отдельным реформам образования;
– в реабилитации образовательного контрреформирования, традиционно-консервативного направления образовательной политики в целом, традиционно-консервативной политико-образовательной парадигмы как обладающих важными собственными стабилизирующими функциями и потенциалом для развития образования в противовес получившей широкое признание научной концепции Э. Д. Днепрова;
– в выстраивании иерархической системы категорий «модернизация образования», «образовательное реформирование», «стратегия образования», «реформа образова- ния» в противовес распространенному и некорректному использованию этих категорий применительно к историко-педагогическим феноменам;
– в применении указанных категорий для историко-образовательной трактовки модернизации образования как циклически-волнового процесса взаимодействия зарубежных и национальных педагогических культур, вестернизаторской и традиционно-консервативной политико-образовательных парадигм в противовес привычному противопоставлению образовательных инноваций и традиций в духе противопоставления исключительно либерального прогрессизма и охранительной отсталости в образовании;
– в применении выработанной методологии к реалиям современной образовательной политики России, в обосновании ее как объективно выработанного отечественной педагогической культурой сочетания инновационных циклов и ретро-инновационных волн в противовес восприятия образовательной политики российской государственности как имеющей случайный и бессистемный характер, достаточно популярного и широко распространенного в педагогическом сообществе жесткого противопоставления инновационности вестернизаторского курса любым традициям.