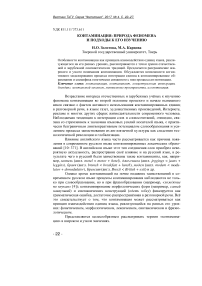Контаминация: природа феномена и подходы к его изучению
Автор: Золотова Наталия Октябревна, Карцова Маргарита Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Особенности контаминации как принципа взаимодействия единиц языка, реализующегося на его разных уровнях, рассматриваются с точки зрения отечественной и зарубежной лингвистических традиций. Предлагается разграничение широкого и узкого понимания контаминации. Обсуждаются возможности когнитивного моделирования процесса интеграции единиц в контаминированное образование и специфика генетически связанного с ним процесса агглютинации.
Контаминация, контаминант, концептуальная интеграция, блендинг, ментальный лексикон, ментальные пространства, агглютинация
Короткий адрес: https://sciup.org/146278358
IDR: 146278358 | УДК: 811.111’373.611
Текст научной статьи Контаминация: природа феномена и подходы к его изучению
Возрастание интереса отечественных и зарубежных учёных к изучению феномена контаминации во второй половине прошлого и начале нынешнего веков связано с фактом активного использования контаминированных единиц в разговорной речи, в языке газет, художественных произведений, Интернете, рекламе и многих других сферах жизнедеятельности современного человека. Наблюдаемая тенденция к интеграции слов и словосочетаний, очевидно, связана со стремлением к экономии языковых усилий носителей языка, с практически безграничным лингвокреативным потенциалом словообразования и усилением процесса заимствования из англоязычной культуры как следствия технологической революции и глобализации.
Влияние английского языка часто рассматривается как причина появления в современном русском языке контаминированных лексических образований [10: 371]. В английском языке этот тип соединения слов приобрел невероятную актуальность, распространив своё влияние и на русский язык, в результате чего в русский были заимствованы такие контаминанты, как, например, мотель (англ. motel < motor + hotel), джеггинсы (англ. jeggings < jeans + leggins ) , бранч (англ. brunch < breakfast + lunch ), модем (англ. modem < modulator + demodulator ), Брексит (англ. Brexit < British + exit ) и др.
Однако кроме контаминаций на почве недавних заимствований в современном русском языке процессы контаминирования наблюдаются не только при словообразовании, но и при фразообразовании (например, «хождение по внукам» [4]); контаминирование морфологических форм (например, самый наилучший ) и синтаксических конструкций ( одеть юбку ) фиксируется как грамматическая ошибка, достаточно распространённая в разговорной речи. Всё это свидетельствует о том, что контаминация может рассматриваться как принцип взаимодействия единиц языка, реализующийся на разных его уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом и фразеологическом.
Представляется целесообразным рассматривать термин «контаминация» в широком и узком значениях.
В широком значении этот термин используется по отношению к обширному кругу явлений, в число которых входят смешанные способы словообразования ( умиротворить, шестиклассник ) [18: 269], разные виды словотворчества [19: 273], например, «стрекозёл», «правдун», «сердитки» (морщинки на лбу) [20], словообразование по аналогии ( правда – кривда ) [там же] и любое «соединение в одно двух ходовых выражений или пословиц» [11: 65], например, «Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь» (В. Маяковский) (соединение пословиц «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» и «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» ) [там же]. В грамматике продуктом контаминации считается нарушение границ словосочетаний и стандартного порядка слов в результате взаимодействия разных синтаксических моделей [16].
Узкое понимание значения термина «контаминация» представлено в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, где контаминация определяется как «взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или формальному изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» [2: 206]. При узком понимании контаминации это явление связывается всего с двумя типами взаимодействия языковых единиц: наложением и скрещиванием (агглютинацией) [7: 86–88; 6: 80–81], которые можно наблюдать на разных уровнях языка. При контаминации, осуществлённой путём скрещивания, происходит взаимная смена компонентов языковых единиц ( мопед < мотоцикл + велосипед ), а при наложении происходит соединение элементов исходных единиц, имеющих формально совпадающий компонент ( из-врат < извращение + разврат ) [там же]. Особенностью наложения как способа взаимодействия компонентов лексических единиц является его способность возникать одновременно в нескольких местах контаминанта. В таких случаях наложение может быть названо многоместным.
Следует отметить, что в рамках узкого подхода к пониманию термина «контаминация» в современной лингвистике также употребляются другие названия для обозначения данного феномена, а именно: вставочное словообразование, стяжение, словосращение, слияние, телескопия, блендинг, fusion, amalgam и др. В западной лингвистической традиции отдаётся предпочтение термину «блендинг», которым обозначают как «факты креативного мышления с установкой на самореализацию личности» [14], так и результаты непреднамеренного смешения языковых единиц носителем языка, т.е. оговорки, ошибки. Последнее значение зафиксировано в словаре ABBYY Lingvo 12 и толкуется как «the process by which one word or phrase is altered because of mistaken associations with another word or phrase; for example, the substitution of ‘irregard-less’ for ‘regardless’ by association with such words as ‘irrespective’» [21].
В российской традиции [2; 10] термин «контаминация» употребляется часто по отношению к окказиональным словообразованиям, которые обычно имеют функционально-стилевую окраску («Инфлюенца – симуленца, притво-ренца, лодырит») [15]. В отечественной традиции встречается и более строгое понимание контаминации, согласно которому «контаминант должен состоять исключительно из словообразовательных осколков» [13]. При этом под словообразовательным «осколком» понимается произвольно выделенная часть слова, не являющаяся самостоятельным формантом и совпадающая либо со сло- гом, либо со структурными элементами слога. В соответствии с этой позицией такие синтаксические (nothing else than a miracle < nothing but a miracle + nothing short of a miracle) и семантические (stable – совмещение значения слов «конюшня» и «постоянный») образования не могут рассматриваться в качестве контаминированных [там же].
Словосращение как проявление контаминации на уровне слова изучается в работе [12], где обсуждаются пять базовых критериев, способствующих отграничению слов-сращений от смежных понятий. К числу выделенных критериев автор относит: 1) графическую цельнооформленность; 2) идеоматич-ность (фразеологичность) значения; 3) непреднамеренный характер соединения элементов сращения; 4) образование слов-сращений на основе словосочетаний; 5) сохранение в неизменном виде синтаксических связей внутри слов-сращений.
Многообразие проявлений контаминации как словообразовательной потенции языка способствует расплывчатости определения этого понятия. Изучение контаминации как явления обусловлено спецификой тех подходов, в русле которых оно изучается. Очевидно, контаминированное образование как продукт речемыслительной деятельности носителя языка не идентичен тому, что образуется в ходе метаязыковой деятельности лингвиста, пытающегося строго дифференцировать случаи контаминации на логико-рациональных основаниях. В первом случае речь идёт о языковой способности человека, во втором – о языковой системе (о специфике лингвистического и психолингвистического подхода к анализу языковых явлений см.: [8; 9]).
Когнитивная природа контаминированных слов описана в научной литературе с помощью модели концептуальной интеграции [24]. В целом создание контаминанта представляет собой процесс оперирования различными концептами, из которых избираются элементы, представленные в контаминанте, в то время как другие элементы маргинализируются. С этой точки зрения, образование контаминированных лексических единиц есть результат сложного когнитивного процесса интеграции концептов (conceptual blending), проявляющегося на языковом уровне. По концепции авторов, в процессе речемыслительной деятельности формируются так называемые «ментальные пространства» (mental spaces) – концептуальные объединения, которые являются отражением нашего восприятия действительности. В процессе когнитивной операции ментальные пространства комбинируются и формируют промежуточное (родовое) пространство (generic space), которое затем координируется, структурируется и приводит к образованию нового смешанного пространства (blend) [цит. раб.: 1–2].
Описанный процесс интеграции концептов представляется генетически связанным с таким явлением внутренней речи, как «слипание значений слов через агглютинации», о чём говорил Л.С. Выготский [3: 390]. Наблюдения над эгоцентрической речью ребёнка позволили учёному проследить своеобразный способ объединения слов в детских высказываниях, названный им «влиянием» смысла, который, по мнению Выготского, понимается одновременно в его первоначальном буквальном значении «вливание» и его переносном, ставшим общепринятым, значении. Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы вли- яют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют [там же].
Об «уникальности слипания» под влиянием работ Выготского пишет и А.Г. Асмолов [1]. Автор приводит примеры слипания, которые актуализованы в поэтических произведениях для детей К.И. Чуковского «Мойдодыр» и «Айболит» , а также указывает на одного из героев Б.В. Заходера, который назывался «Щасвернус» . А.Г. Асмолов обращает внимание на тот факт, что часто повторяемое Мойдодыр (мой-до-дыр) и Айболит (ай-болит) скрывает от нас тот факт, «как за этими словами проступает совершенно иное измерение реальности» [1: 424]. Комментируя примеры с Дон Кихотом и поэмой «Мертвые души» Гоголя, которые использует Выготский для демонстрации «закона влияния смысла», А.Г. Асмолов формулирует суть агглютинации как процесса «упаковывания» значений и вырастания иных миров [там же].
Сам же Л.С. Выготский на примере «Мертвых душ» демонстрирует механизм свёртывания смыслов следующим образом: «… подобно тому как весь многообразный смыл этой поэмы может быть заключён в тесные рамки двух слов , так точно огромное смысловое содержание может быть во внутренней речи влито в сосуд единого слова » [3: 400. Выделено нами. – Н.З., М.К.].
Каждое производное слово оказывается некой моделью представления знаний о мире в сознании человека. Словообразовательный акт представляется как своеобразный акт словотворчества, позволяющий проникнуть в глубины человеческого сознания, в процессы освоения и постижения окружающего мира. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, связанные с тем, как слово (в нашем случае контаминант) «живёт» в сознании носителя языка и культуры, как хранится и извлекается из ментального лексикона.
Процесс интеграции не является случайным или стихийным, он регулируется определёнными особенностями участвующих в соединении компонентов. Опираясь на исследования М. Taft [25], можно сказать, что контаминированным образованиям соответствуют сложные репрезентации, т.е. в лексиконе находят отражение как отдельные морфемы (например, Людмилая < Людмила/милая ), так и смысловые и структурные связи между ними. В соответствии с данными особенностями происходит и идентификация таких единиц: в процессе восприятия осуществляется доступ к морфемам, составляющим слово, и репрезентация слова формируется из репрезентаций отдельных морфем. Этот процесс связан, как отмечает И.Р. Гальперин, «с реализацией заложенной в языке способности словообразовательной морфемы означать больше, чем ей положено по рангу» [5: 193]. С другой стороны, исследования H.R. Baayen [22] показали, что контаминанты могут храниться в лексиконе независимо от базовых форм, от которых они были образованы. Доступ к ним может осуществляться непосредственно, без предварительного доступа к морфемам, входящим в их состав.
Таким образом, опознание контаминанта может осуществляться двумя способами: либо непосредственно, либо через идентификацию отдельных составляющих. То, какой именно способ будет применён в каждом конкретном случае, зависит от соотношения ряда психолингвистических факторов, ведущими из которых, очевидно, являются степень знакомости единицы и её субъективная частотность. Экспериментальные исследования на материале поли морфемных слов показали, что при восприятии малознакомых или незнакомых слов увеличивается опора на элементы слова и уменьшается его восприятие как целостного образования [17].
Выявление особенностей идентификации контаминантов требует обращения к индивидуальному сознанию рядового носителя языка и культуры с помощью экспериментальных методик. Процессы опознания и извлечения таких образований из ментального лексикона предположительно будут представлять собой процесс, обратный агглютинации, т.е. обнаруживать «разрыв связи», «распаковывание» значений, «возвращения» в социальный мир новых единиц – «иных миров» в терминах Выготского и Асмолова.
Список литературы Контаминация: природа феномена и подходы к его изучению
- Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М.: «Смысл», 2002. 480 с.
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер. М.: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. 571 с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. 362 с.
- Москвитин Е. . Электрон. газ. 2013. 18 января/URL: https://www.gazeta.ru/culture/2013/01/18/a_4931245.shtml (дата обращения: 01.10.2017).
- Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. М.: Высшая школа, 1997. 335 с.
- Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в аспекте системных особенностей лексики и фразеологии//Сибирский филологический журнал. 2006. № 3. С. 77-86.
- Журавлев А.Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации//Способы номинации в современном русском языке. М., 1982. С. 45-109.
- Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1990. 206 с.
- Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. 560 с.
- Земская Е.А. Словообразование//Современный русский язык: учебник. М., 1999. С. 284-441.
- Квятковский А.П. Одиннадцатисложник//Поэтический словарь/науч. ред. И. Роднянская. М.: Сов. энцикл., 1966. 376 с.
- Корытова О.М. Когнитивное пространство словосращения: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. 100 с.
- Лаврова Н.А. Контаминация и контаминанты в современном английском языке: номенклатура, структура, динамика /URL: http://www.r usnauka.com/26_WP_2012/Philologia/3_116103.doc.htm (дата обращения: 29.09.2017).
- Лаврова Н.А. Структура, значение и смысл контаминированного слова в современном английском языке. М.: Прометей, 2009. 183 с.
- Маршак С. Избранное. Стихи, сказки, переводы. М.: Изд-во «Художественная литература», 1952. 776 с.
- Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 562 с.
- Новикова И.В. Психолингвистическое исследование идентификации полиморфемного слова при учебном двуязычии: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.19/И.В. Новикова; Твер. гос. ун-т. Тверь, 2011. 20 с.
- Пекарская И.В. Контаминация//Культура русской речи: энцикл. слов.-справ. М., 2007. С. 269-272.
- Сковородников А.П. Контаминация словообразовательная//Культура русской речи: энцикл. слов.-справ. М., 2007. С. 272-274.
- Чуковский К. От двух до пяти. Живой как жизнь. М.: Изд-во «Детская литература», 1968. 576 с.
- Abbyy Lingvo 12 . Выпуск 12.0.0.413 ABBYY ® Lingvo® 12©, 2006. URL: https://www.abbyy.com/dictionary/english/contamination (дата обращения: 25.09.2017).
- Baayen H.R. Dutch inflection: The rules that prove the exception/H.R. Baayen, R. Schreuder, N. De Jong, A. Krott//Storage and Computation in the Language Faculty. 2002. № 3. Pp. 61-92.
- Esper E.A. Analogy and association in linguistics and psychology. Athens: University of Georgia press, 1973. 356 p.
- Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2001. 440 p.
- Taft M. Morphological decomposition and the reverse base frequency effect//Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2004. № 57 (A). Pp. 745-746.