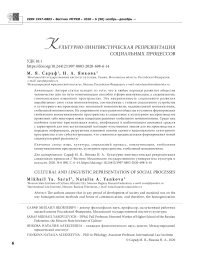Культурно-лингвистическая репрезентация социальных процессов
Автор: Сараф Михаил Яковлевич, Янкова Наталия Алексеевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (98), 2020 года.
Бесплатный доступ
Авторы статьи исходят из того, что в любые периоды развития общества человечество шло по пути гомогенизации способов и форм коммуникации, а следовательно, гомогенизации языкового пространства. Эта направленность социального развития вырабатывает свои типы монолингвизма, соотнесённые с типами социального устройства и культурного воспроизводства: локальный монолингвизм, национальный монолингвизм, глобальный монолингвизм. На современном этапе развития общества в условиях формирования глобального коммуникативного пространства в социальном и культурном воспроизводстве проявляют себя некоторые новые тенденции развития глобального монолингвизма. Среди них наиболее заметны прагматизация языка, унификация и шаблонизация языковых средств с характерной для них актуализацией наглядно-чувственных знаков для воспроизводства и передачи информации, разрушение языковой основы единого национального культурного пространства и его субкультуризация, что становится предпосылками формирования новой социокультурной реальности.
Язык, культура, социальный процесс, коммуникация, глобальное коммуникативное пространство, культурное пространство, глобальный монолингвизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144161508
IDR: 144161508 | УДК: 81:1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-698-6-14
Текст научной статьи Культурно-лингвистическая репрезентация социальных процессов
Общество как социокультурная система имеет разноаспектное содержание своих структурных, функциональных и динамических характеристик. Культурно-лингвистический аспект является одним из ключевых в изучении социальных процессов как в исторической ретроспективе, так и в современных условиях, поскольку взаимосвязь и взаимообусловленность культуры и языка вскрывают смысловые основания общественного воспроизводства. Язык как знаково-символическая моделирующая система человеческого сознания выступает конституирующим основанием и атрибутом культуры, которая выступает как система устойчивых, воспроизводимых субординационных и координационных связей между символическими программами поведения людей. В свою очередь, культурные трансформации неминуемо приводят к трансформации языка культуры, в том числе её вербальной сферы. Кроме того, функции языка коррелируют с функциями культуры в осмыслении и проектировании реальности и управлении ею. Так, природно-географическое пространство, в котором складываются общественные отношения, наполняясь духовными значениями и закрепляясь в сознании субъектов посредством языка, становится пространством культурным. Через экстра- и интралинг-вистические ресурсы выражаются духовные значения (ценности, нормы, образцы поведения и т.п.), порождённые воспроизводственными процессами жизнедеятельности человека как самосознающего и самоценного субъекта, а также значимая для воспроизводственной деятельности информация. Сохранение и воспроизводство единого культурного пространства осуществляется посредством его лингвистической компоненты, позволяющей любому индивиду или социальной группе в любой точке пространства включиться в общественные отношения, становясь их субъектом. Изучение социальных процессов с точки зрения их культурно-лингвистического содержания позволяет не только выявлять синхронное состояние конкретного исторического общества, но и прослеживать тенденции его изменений.
Методологическим основанием нашего рассмотрения культурно-лингвистического содержания современных социальных процессов служит концепция В. С. Степина о движении культурных универсалий, обу- словливающем историческую смену типов рациональности (классического, неклассического и постнеклассического), и следующая за ней концепция А. Я. Флиера о соответственных типах культуры [7].
Согласно им социокультурные трансформации проявляются в формировании потребности в научном знании, в смене моделей экономики, технологических укладов, типов легитимизации власти (например, в переходе от династийно-монархического к национально-гражданскому и наднациональному типу), положения человека в обществе (например, движение к суверенизации личности) и образа жизни.
Динамика социокультурных процессов связана также со сменой типов коммуникации и воспроизводства культуры, что проявляется в переходе от устного и рукописно-письменного типов к письменно-печатному и печатно-цифровому. Каждый из этих типов вырабатывает свой способ передачи и хранения информации, свою коммуникативную модель и свою специфику использования ресурсов вербального языка [3].
Наконец, в любые периоды исторического развития так или иначе осуществляется гомогенизация способов и форм коммуникации и, следовательно, гомогенизация языкового пространства. Если рассматривать исторический процесс с позиции изменчивости форм социального существования и трактовать такую динамику в культурно-лингвистическом аспекте, то для каждого из типов социальной организации можно выделить свой тип монолингвизма (локальный монолингвизм, национальный, глобальный, или наднациональный) с присущим ему механизмом передачи духовных значений конкретной эпохи, который вырабатывается в единообразном использова- нии языка в многообразном существовании его форм.
В общественно-историческом процессе типы монолингвизма, сменяя друг друга, выражали накопительный эффект сохранения способов коммуникации и соответствующих им культурно-лингвистических форм. Так, современный этап развития общества, характеризующийся формированием глобального коммуникативного пространства с его тенденцией к складыванию глобального монолингвизма в сущности развивает и усиливает общее устремление к гомогенизации социокультурного (в том числе языкового) пространства.
С возникновением цивилизации как исторически первого типа социального устройства с его чётким делением на рели- гиозные, сословно-родственные, этнические, профессиональные общности гомогенизация социокультурного пространства выражалась в формировании локального монолингвизма, связанного с культурнолингвистическими различиями и идентификационными категориями членов общностей. Например, этнонациональные разграничения устанавливались на основании языкового фактора, отсюда распространённость синкретизма понятий «народ» и «язык» (А. С. Пушкин: «… и назовёт меня всяк сущий в ней язык …»). Вместе с тем локальный монолингвизм поддерживал бинарные оппозиции, на которых строился классический тип культуры: «низкая» культура – «высокая» культура, низшие – высшие слои общества, мирское – сакральное, благостное – греховное, правильное – неправильное, свой – чужой [7].
Одной из основных институциональных основ этого типа, наряду с государственной властью, выступали надэтнические религии, вырабатывающие свои куль- товые языки (языки священных текстов или языки культуры), владение которыми определяло принадлежность человека к «высокой» культуре. Это формировало культурное двуязычие как одно из проявлений локального монолингвизма, при котором разграничение высших и низших слоёв общества осуществлялось на основании вла-дения/невладения письменной языковой традицией, требующей специальной длительной подготовки и соотнесённой с конкретной религиозной практикой. Достаточно вспомнить ситуацию русского двуязычия, сохранявшуюся вплоть до XVIII века, когда церковнославянский язык закреплялся за книжно-письменной традицией, а русский язык в его диалектных формах – за повседневным общением [6].
Одно из следствий локального монолингвизма – культурно-лингвистическая маркированность «высокой» культуры, которая всегда требует охранительных механизмов. В богослужении, науке, образовании было характерно использование универсальных языков (латыни, древнегреческого языка, арабского языка, санскрита и других), которые не вытесняли народные языки, а создавали особую книжнописьменную традицию в пределах культурных ареалов. Рукописный тип воспроизводства культуры, соответствующий «высокой» культуре и находящийся в отношениях взаимной дополнительности к устному типу, также определял специфику гомогенизации языкового пространства в условиях локального монолингвизма.
С переходом к индустриальному обществу поддержание такого рода социокультурных барьеров утратило смысл. Наоборот, индустриализация требовала унификации языковых навыков в пределах конкретного общества. Язык становится решающим фактором включения разнородного в культурном плане населения определённой страны в государственную политико-административную систему. Монолингвизм, формируемый государственной властью в пределах нации как государственно-гражданской общности, становится основой развития национального государства, поэтому национальное самосознание начинает формироваться посредством выработки и законодательного закрепления единого государственного языка как интегративного фактора нации. Так формируется новый тип гомогенизации языкового пространства, называемый нами национальным монолингвизмом. Он сформировал основные культурно-лингвистические черты индустриального общества.
К ним относится:
-
• преимущественно письменно-печатный способ воспроизводства и самоописа-ния культуры, ориентированный на передачу большого объёма информации;
-
• всеобщая грамотность, которая даёт доступ к высокой культуре всем социальным группам;
-
• развитая система коммуникации и соответствующий ей единый, стандартизованный язык, который создаётся специально для целей закрепления паттернов национального самосознания, хотя такой язык, безусловно, связан со своими историческими источниками, прежде всего с «высокой» письменной культурой цивилизационного общества;
-
• превращение в общественном сознании унифицированного государственного языка в критерий лояльности к национально-государственным ценностям;
-
• дисфункциональность многих этнических языков в пределах формируемого единого национального культурного простран-
- ства и их последующая деградация, особенно тех, которые не имели длительной письменной традиции [5].
Однако необходимо отметить, что национальный монолингвизм как тип гомо- генизации языкового пространства в индустриальном обществе характерен прежде всего для европейской цивилизации. За её пределами такая логика социокультурной динамики начинает распространяться в результате колонизации или вестернизации незападных обществ, а следовательно, атрибуты национального монолингвизма начинают заявлять о себе повсеместно (например, Индия, страны Африки) установлением государственных языков, формированием идеологии лингвистического национализма, ужесточением языковой политики с её охранительными установками по отношению к государственному языку и другими.
В ходе формирования глобального коммуникативного пространства и принципиальных изменений технических средств постепенно снимаются ограничения пространственно-временных параметров общения, возникают виртуальные сообщества и виртуальное общение, формируется виртуальное пространство языка, существенно отличающееся от географического и создающее условия для изменения положения конкретного языка, которое для создания текстового контента обычно определялось возможностями использования таких программных инструментов, как переводчики, орфографические корректоры, системы распознания речи и т.п. Усиливающаяся тенденция к расширению надэтнического общения приобретает новое содержание, поскольку в условиях глобального монолингвизма гомогенизация языкового пространства служит не столько для выражения духовных значений как матриц культуры, сколько для обеспечения, расширения и интенсификации коммуникации как таковой. Это порождает ряд особенностей культурно-лингвистических процессов современности.
Во-первых, естественный язык начинает менять духовно-смысловую функцию, постепенно уступая своё системообразующее первенство в процессах культурооб-разования. Это выражается в заметной редукции функции языка к утилитарно-прагматической. Если в предыдущие периоды социального развития ценность языка устанавливалась прежде всего по его культурообеспечивающему содержанию (этнический язык, сакральный язык, государственный язык, язык науки, язык искусства), то в условиях глобального монолингвизма ценность языка всё заметнее приобретает утилитарно-прагматическое содержание (экономическая целесообразность, эффективность, конкурентоспособность, рентабельность и т.п.). Освоение языков происходит не столько из интереса к его культурному содержанию, сколько вследствие использования его как наиболее актуального средства общения, и функционирование языковых средств начинает подчиняться так называемой технологии юзабилити, связанной с удобством и эффективностью их использования в поиске и обработке информации.
Во-вторых, в условиях глобального коммуникативного пространства коммуникация из средства социального взаимодействия преобразуется в его цель, а глобальный монолингвизм выражается не столько в доминировании конкретного языка на глобальном уровне, сколько в унификации коммуникативных технологий поверх границ и культур. В основе глобального монолингвизма лежит принцип «коммуникация ради коммуникации», при котором разные виды деятельности направлены прежде всего на расширение и интенсификацию коммуникации.
На протяжении последних двадцати лет многими исследователями высказывалась мысль о том, что в условиях глобальной коммуникации будет вырабатываться единый язык международного общения, и на роль такого языка стал претендовать английский язык в силу доминирующего положения англоязычных стран в ключевых сферах общества: производство и распространение знаний, информации, товаров и услуг. Формально сегодня английский язык становится международным языком науки, политики, IT-общения. Однако, на наш взгляд, говорить об английском языке как о знаково-символической системе, применяемой повсеместно для целей глобальной коммуникации, не приходится, поскольку активно используется не английский язык как язык англосаксонской культуры, а его вторичные формы, во многом примитивные, оторванные от духовных смыслов культуры, их породивших, а лишь обеспечивающие быстроту коммуникации, понятность, эффективность. Не случайно появилось понятие Basic English, наряду с ним эксперты выделяют гибридные языковые формы, складывающиеся на базе национальных языков, такие как дэнглиш (немецко-английский макаронизм), рунглиш (русско-английский макаронизм) и т.п.
Создание глобального коммуникативного пространства приводит к ослаблению самобытного этнонационального содержания культуры, а в языковом аспекте – к упрощению и унификации конкретных языковых систем, что порождает «царство мёртвой тождественности при огромной внеш- ней активности» [4, с. 342]. Глобальное коммуникативное пространство устраняет зону непересекаемого между культурами и расширяет зону тождества, навязывая тем самым унифицированные элементы, в результате чего вырабатываются единые стереотипы коммуникации в глобальном масштабе, которые приводят к общемировым интегративным языковым тенденциям, таким как глобализация языка, его прагматиза-ция и утилитаризация. Это провоцирует разрушение традиционной системы ценностей и возникновение новых ценностных ориентаций, внешних по отношению к духовной жизни индивида, данной культуре в целом, неадаптированных ею, то есть приводит к понижающему аксиологическому сдвигу. Диалог между культурами, формирующий, по выражению В. М Межуева, цивилизацию диалога, теряет эту роль, поскольку навязываемые параметры должного поведения ориентированы на смысловое упрощение общения (активизируется то, что доступно большинству) и его унификацию [2, с. 387].
В-третьих, всё большая шаблонность коммуникации, постепенная утрата навыка языковой рефлексии над написанным или прочитанным текстом, который во многом не создаётся, а конструируется, пассивно-отстранённое восприятие информации как готового интеллектуального продукта приводит и ко всё большей востребованности наглядно-чувственных знаков. Следовательно, логика развития глобального монолингвизма разворачивается в сторону развития визуальных форм коммуникации, характерных для бесписьменных эпох или раннеписьменных языковых традиций, при которых слова заменяются картинками и актуализируются краткие визуализированные сообщения.
Такие типы знаков начинают заменять и предложений). В публичной коммуника- интеллектуально-символические знаки, соответствующие рационально-логическому освоению мира. В этих условиях слову как единице языка, выражающей понятие, отводится второстепенная функция, его место для обозначения эмоций начинают занимать такие наглядно-чувственные знаки, как, например, «смайл» и знаки препинания (скобки, вопрос, восклицание и другие), аббревиатуры (др – день рождения, сПС – спасибо, ОК – О, Кей, имхо – по моему мнению, от английского IMHO, то есть In My Humble Opinion), мемы (однозначно декодируемые картинки-символы или фразы-символы). Это приводит к антропологическим метаморфозам, выражающимся в форми- ровании нового типа мышления – «клипового мышления», к неспособности человека воспринимать объёмные тексты, имеющие многомерные смыслы, а значит, к неразвитости его аналитического и критического мышления [8, с. 58].
С учётом перечисленных тенденций можно сказать, что сегодня в условиях развития глобального монолингвизма формируется новая коммуникативная технология – глобалистский «новояз», для которого характерны активная унификация понятий, взаимопереводимых с языка на язык, насаждение слов, лишённых лингвокультурных компонентов, маргинализация традиционных речевых форм общения.
Глобалистский «новояз» имеет своё выражение и применительно к русскоязычной коммуникации. Так, активно насаждаются англицизмы как более ёмкие средства коммуникации не только на лексическом уровне (типа дедлайн, стартап, апгрейд, тренд и другие), но и на уровне грамматики (например, отказ от образования падежных форм слов в построении словосочетаний ции получает распространение интонация по типу английского языка (с повышением тона в конце повествовательного предложения). Активно используются графические средства английского языка или смешанные графические формы (IT-общение, web-дизайн, Yandex и другие). Актуализируются денотативно пустые слова и словосочетания, как правило, кальки английского языка, не имеющие чёткой дефиниции. Номинации типа демократические свободы, права человека, гражданское общество, экспорт демократии становятся своего рода позитивными клише, при этом содержание понятий, ими обозначенных, остаётся неопределённым. Девальвируется ценность русского языка как государственного языка Российской Федерации, а его нормативная система подвергается резкой трансформа- ции в результате активизации ненормативных единиц в публичной коммуникации. Слова, отражающие духовно-нравственные ориентиры, такие как совесть, кощунство, благородство, милосердие, уходят из широкого оборота, образуя семантические лакуны, а на смену им приходят слова, выражающие развязность, необузданность поведения человека, освободившего себя от духовно-нравственных норм, – хайп, троллинг, кибербуллинг и т.п.
Развитие глобального монолингвизма обнаруживает новые существенные противоречия динамики современных социальных систем. Во-первых, формирование глобального коммуникативного пространства сопровождается автономизацией социальных общностей и субкультуризацией, унификация коммуникации – её фрагментацией. Это выражается в отказе от практик унификации и культурно-языковой гомогенизации граждан в пределах националь-
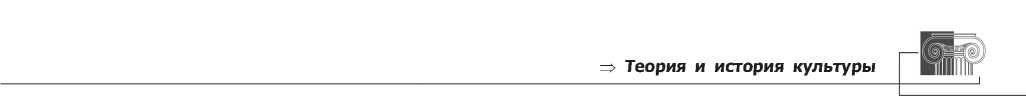
ных государств и ревитализации этнического самосознания; в поддержке наднациональных форм идентичности в рамках межгосударственных интеграционных союзов (франкофония, панарабизм, финноугорский мир и другие), создаваемых на культурно-лингвистических основаниях; в актуализации этнонациональной языковой идеологии в разных странах, использующейся политическими силами в качестве механизмов взлома сложившихся политических и культурно-цивилизационных границ [1, с. 11].
Во-вторых, это противоречие усиливает направленность социальных процессов в сторону атомизации общества, разрушения единого национального культурного пространства. Оно углубляет дискредитацию идеи национального государства и дезактуализирует государственный язык как интегрирующий фактор государственно-гражданской общности. Вместе с тем оно укрепляет наднациональные (глобальные) формы управления, в том числе за счёт культурно-лингвистических ресурсов, что соответствует идеологии глобализма, выражающей интересы транснациональных корпораций и элит.
Поэтому рассмотренные тенденции развития современных социальных процессов по-новому ставят вопросы о свободе человека и его зависимости от информаци- онной метареальности в условиях формирования так называемого информационного тоталитаризма, о степени социального отчуждения, о расширении возможностей манипулирования сознанием посредством коммуникативных технологий, о выработке новых этических принципов социального бытия, которые требуют специального изучения.
Таким образом, социальные процессы, рассмотренные диахронически и синхронически с точки зрения культурно-лингвистического содержания, обнаруживают общую тенденцию к гомогенизации и унификации языкового и культурного пространства, что формирует новые типы монолингвизма, существенно меняющие механизмы воспроизводства культуры.
Принципиальная особенность глобального монолингвизма с его прагматизацией и примитивизацией языка связана с изменением характера коммуникации в условиях формирования глобального коммуникативного пространства, когда любая человеческая деятельность подчиняется расширению и интенсификации коммуникации («коммуникация ради коммуникации»). Возникающие в связи с этим проблемы и противоречия порождают новый тип социальной реальности, при котором разрушаются исторически сложившиеся воспроизводственные механизмы культуры.
Список литературы Культурно-лингвистическая репрезентация социальных процессов
- Малыгина И. В. Динамика этнокультурной идентичности : мировые тренды и российская специфика // Столкновение идентичностей и принципы межкультурных коммуникаций в современном мире : коллективная монография / под научной редакцией И. В. Малыгиной. Москва : МГИК, 2016. C. 8-21.
- Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. Москва : Университетская книга, 2012. 406 с.
- Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации : учебное пособие. Москва : Флинта : Наука, 2017. 520 с.
- Миронов В. В. Философия и метаморфозы культуры : монография. Москва : Современные тетради, 2005. 424 с.
- Ремизов В. А. Культурно-цивилизационные процессы : монография. Москва : МГИК, 2020.
- Успенский Б. А. История русского литературного языка как межславянская дисциплина // Избранные труды. Том III. Общее и славянское языкознание. Москва : Языки русской культуры, 1997. С. 121-143.
- Флиер А. Я. Классическая, неклассическая и постнеклассическая культура : опыт новой типологизации (начало) [Электронный ресурс] // Культура культуры. 2017. № 3. URL: http://www. cult-cult.ru/classical-nonclassical-and-post-nonclassical-culture-a-new-typology-part-1/
- Шакирова Е. Ю., Листвина Е. В. Современная социокультурная ситуация : антропологические метаморфозы // Вопросы философии. 2018. № 1. С. 55-65.