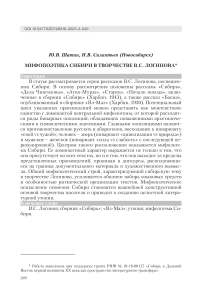Мифопоэтика Сибири в творчестве В.С. Логинова
Автор: Шатин Ю.В., Силантьев И.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается серия рассказов В.С. Логинова, посвященных Сибири. В основу рассмотрения положены рассказы «Сибирь», «Дела Чингизовы», «Атик-Мурза», «Старец», «Начало похода», включенные в сборник «Сибирь» (Харбин, 1943), а также рассказ «Басма», опубликованный в сборнике «Ял-Мал» (Харбин, 1930). Потенциальный цикл указанных произведений можно представить как межтекстовое единство с доминантой центральной мифологемы, от которой расходятся ряды бинарных оппозиций, обладающих повышенными архетипическими и символическими значениями. Главными оппозициями являются противопоставление русских и аборигенов, восходящее к инварианту «свой vs чужой»; человек - зверь (инвариант «цивилизация vs природа») и мужское - женское (инвариант «сила vs слабость» с последующей перекодировкой). Центром такого расположения оказывается мифологема Сибири. Ее доминантный характер выражается не только в том, что она присутствует во всех текстах, но и в том, что она выходит за пределы представленных произведений, проникая в дискурсы, располагающиеся на границе документального материала и художественного вымысла. Общий мифопоэтический строй, характеризующий сибирскую тему в творчестве Логинова, усиливается обилием набора языковых средств и особенностью ритмической организации текстов. Мифопоэтическое осмысление освоения Сибири становится важнейшей конструктивной основой творчества писателя и приводит к созданию целостной литературной утопии.
В.с. логинов, сборник «сибирь», «ял-мал», утопия, мифологема сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/149143105
IDR: 149143105 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-240
Текст научной статьи Мифопоэтика Сибири в творчестве В.С. Логинова
Касаясь понимания мифопоэтики, В.Н. Топоров говорил о ней «как о производстве художественных текстов, локализующих определенные акты сознания, привязывающих их к различным повышенным символическим объектам» [Марков 2019, 227]. Подобное определение представляется наиболее верным и глубоким из всех существующих, поскольку, во-первых, придает литературным текстам статус интенциональных объектов, выявляющих особенности художественного мышления (бытийные структуры, по словам Р. Ингардена), а во-вторых, сохраняет подход к этим текстам как к вещественным структурам, доступным для филологического анализа. Именно при таком подходе мифопоэтика оказывается одновременно и объектом эпистемологиии – как миф, и онтологическим объектом – как поэтическое произведение, требующее архитектонического завершения.
В такой интерпретации мифопоэтика оказывается и антитезой, и инструментом противостояния рациональному освоению мира. Как справедливо замечает литературовед, «для художника с рациональным типом мышления искусство остается эстетической игрой, условность которой обнажается в поэтическом мире. Для художников с мифологическим типом мышления искусство становится постижением мира и его сотворением по образу и подобию творчества демиурга – Бога» [Козубовская 2011, 12].
Легко заметить, что в относительно спокойные годы общественного развития доля текстов, в основе которых лежит рациональная модель объяснения мира, увеличивается, и, напротив, в эпоху бурь и сомнений происходит взрывной рост текстов, где мифопоэтическая соотнесенность с реальностью становится доминантой. В данной статье речь пойдет о серии рассказов В.С. Логинова, посвященных Сибири и фактически обнаруживающих черты цикла, хотя и не заявленного автором таковым. Оказавшись волею судеб в дальневосточной эмиграции, писатель наряду с другими соратниками по литературному цеху в течение двух десятилетий продолжал испытывать травматический синдром революционных событий. И здесь мифопоэтическое осмысление освоения Сибири, начинавшееся с XVI в., становится важнейшей конструктивной основой его творчества и приводит к созданию целостной литературной утопии, содержащей, наряду с героическими, эпическими и идиллическими эстетическими формами, средства психологической защиты от наступающей современности. В основу рассмотрения положены рассказы «Сибирь», «Дела Чингизовы», «Атик-Мурза», «Старец», «Начало похода», включенные в сборник «Сибирь» (Харбин, 1943), а также рассказ «Басма», опубликованный ранее в сборнике «Ял-Мал» (Харбин, 1930).
Потенциальный цикл указанных произведений можно представить как межтекстовое единство с доминантой центральной мифологемы, от которой лучами расходятся ряды бинарных оппозиций, обладающих повышенными архетипическими и символическими значениями. Несомненным центром такого расположения оказывается мифологема Сибири. Ее доминантный характер выражается не только в том, что она присутствует во всех текстах, но и в том, что она выходит за пределы представленных произведений, проникая в дискурсы, располагающиеся на границе документального материала и художественного вымысла. Так, в очерках «Сибирская охота» обнаруживаем лирическое отступление, раскрывающее мотив Сибири с присущими ему мифопоэтическими атрибутами. «Сибирь, Сибирь, страна родная, колыбель гордых людей, жестоких кровожадных зверей, драгоценных пушистых зверьков, родина благородных металлов – золота и платины, сокровищ драгоценных камней – изумрудов, рубинов, яхонтов. Как часто я думал о тебе, вглядываясь в Васнецовскую картину, думал и влюблялся в тебя все больше и больше» [Логинов 1930, 143].
Экфразис, порожденный картиной Васнецова, становится составляющей персонального мира автора-изгнанника и уже отсюда проникает в художественные произведения, где Сибирь становится точкой развертывания повествования о покорении значимой части российского пространства. Не имея точных данных о времени написания указанных рассказов, будем ориентироваться на сетку реальных исторических событий, понимая и принимая услов- ный характер такой ориентации. Опираясь на основной принцип мифопоэ-тики – относительности времени и пространства, В.С. Логинов не утруждает себя заботами о хронологии. В рассказе «Сибирь» шестнадцатилетние подростки Кешка и Пашка рассказывают друг другу сказки о Ермаке Тимофеевиче и о Стеньке Разине. Действие происходит на Амуре в 1652 г., как раз за несколько месяцев до восстания Разина, когда, конечно же, никаких сказок не было и в помине. А в рассказе «Дела Чингизовы» внук Чингисхана рассказывает легенду о своем деде. Трудно представить, сколько лет было внуку знаменитого полководца в период российского покорения Сибири.
Итак, начало действия предполагаемого цикла относится ко времени Ермака, о чем и повествуется в рассказе «Начало похода». Именно здесь задается двойственный мифопоэтический образ Сибири как одновременно страны несметных богатств и опасностей, требующих нечеловеческой выдержки. Из владений именитых гостей Строгановых дружине Ермака был «путь в далекую, богатую, лесообильную Сибирь. Максим Яковлевич и Микита Яковлевич давно обдумали этот вопрос. Они знали неисчерпаемые богатства Сибири, потому что из-за Камня часто приходили к ним скуластые татары и приносили груды пушистых соболей и рассказывали сказки о владениях своего “Салтана”» [Логинов 1943, 165]. В то же время казаки «готовились к большому походу, из которого, быть может, половина не должна была возвратиться. Лютые звери, жестокие морозы, бои с узкоглазым хищным врагом, голод, болезни – все это ждало впереди разношерстное, горластое сборище бородатых мужиков и безусых парней» [Логинов 1943, 167]. При этом начало пути под пером Логинова превращается в священное действо, меняющее облик казаков. «Возгласы, точно стоны, неслись и реяли; мятежный казачьи души расплывались в волнах миления и набожности. На суровых обветренных лицах стояли слезы. Корявые руки, как цепи, поднимались кверху для крестного знамения» [Логинов 1943, 168].
Являясь смысловым центром ряда текстов, мифологема Сибири группирует вокруг себя, как уже было сказано, ряды оппозиций, главными из которых являются противопоставление русских и аборигенов, восходящее к инварианту «свой vs чужой»; человек – зверь (инвариант «цивилизация vs природа») и мужское – женское (инвариант «сила vs слабость» с последующей перекодировкой). Вокруг этих трех бинарных оппозиций и строятся указанные нами тексты.
Со-противопоставление «свой – чужой» тесно вплетено в повествовательную ткань с ее неразделимостью мира человека и окружающей его среды. Так, рассказ «Атик–Мурза» начинается описанием полета гуся. При этом сам гусь наделяется символическим смыслом. «Высокая шея заканчивалась крепким красно-желтым клювом, который прямо и воинственно глядел вперед. Черные, как бусинки, глаза, немигающие и острые, видели все, что никогда не увидит человеческий глаз» [Логинов 1943, 27]. Выстрел Ивана Брызги, убивший гуся, рассматривается как обозначение сакральной жертвы, предвещающей разгром войска Кучума казаками. «Братцы-казаки! – закричал маленький есаул в кольчуге, – птицу с поднебесья бьем, неужто поганых не побьем. Быть того не может» [Логинов 1943, 29].
Таким же символом для татарского царевича Маметкула становится полет двух соколов. «Ермак разобьется о каменную стену, как волна о берег. Смотри, над тобой парят два сокола. Это хороший знак. Действительно, над лодкой повисли, распластав крылья, две хищные птицы» [Логинов 1943, 35].
Символический полет птиц переводит повествование в новый смысловой регистр, придавая происходящему мистическое измерение. При этом Логинов не только сохраняет бытовой колорит, но и придает ему отчетливо коннотативное значение, противопоставляя татар и казаков. «Ермак сверкнул саблей и кольчугой. Ермак махнул рукой, в которой колыхался стяг с Нерукотворным Спасом <…> Казаки радостно орали, Ермак размахивал стягом, есаул Иван Кольцо потрясал обнаженной саблей, с которой стекала кровь; победа была полной» [Логинов 1943, 31–32]. А в это время Маметкул видел Кучу-ма, «своего отца, кривоногого и грязного, потрясающего копьем. Видел его в последний момент, когда окруженный десятком всадников мчался старый владыка Сибири, сопровождаемый выстрелами казаков» [Логинов 1943, 34].
Такой же прием контраста повторится в рассказе «Сибирь», посвященном походу Ерофея Хабарова. «Ерофей Павлович Хабаров, родом из Великого Устюга, широкобородый, осанистый купец, алчности неимоверной и храбрости исполненный, построил этот городок и укрепился в нем вместе с двумя сотнями ратников, набранных еще в Московском государстве из своих же устюжских посадских людей да из вольных казаков. Укрепился и легко отбивал узкоглазых даур и желтолицых анчан, ибо делали они попытки немалые взять городок [Логинов 1943, 3–4].
По мере развития сюжета контраст двух основных персонажей Ерофея Хабарова и даурского князя Лавкая усиливается. «Ерофей Павлов Хабаров, широкобородый и осанистый, с бородой, красной как огонь, сидел в воеводской избе, на широкой липовой лавке и пил медленными глотками красную брагу» [Логинов 1943, 5]. В противовес ему, «князь Лавкай был типичный даур тех времен: широкоскулый, узкоглазый, малорослый, имел он в бороде ровно три седых волоска, на голове – остроконечный лисий малахай и роскошную на плечах шубу, подбитую пушистыми драгоценными соболями. Морщинистое лицо его было бессмысленно и важно, а узкие глазки хитро поблескивали» [Логинов 1943, 8].
Конструктивно важным мотивом, подчеркивающим противоположность русских и даур, становится оппозиция «молитва vs колдовство». У казаков «поп был толстый, крепкий, плечистый, с лохматой крупной грозной головой, и голос его звучал, как труба: “Умрем мы, братцы казаки, за веру крещеную и постоим за дом Спаса и Пречистой и Николы Чудотворца, и порадеем мы, казаки, Государю и Великому князю Алексею Михайловичу”» [Логинов 1943, 18]. Напротив, «Лавкай шумно вздохнул и вдруг уселся на лавку между своими смердами, скрепил руки на груди и стал похож на языческого божка. Узкие глаза его замерцали странным светом, лицо закаменело, закоченело, превратилось в блестящий деревянный лик идола, и от него стали исходить какие-то таинственные флюиды, невольно заражавшие присутствующих благоговением и страхом» [Логинов 1943, 10].
Важнейшей составляющей мифопоэтического кода в сибирских рассказах Логинова становятся отношения человека и зверя в момент их неожиданной встречи. В «Медвежьей охоте» и «Старце» реализуются две модели отношений – пантеистической, где основным мотивом оказывается противоборство, и христианской, предполагающей распространение любви на весь животный мир, В обоих случаях фигурантами такого соотношения становятся человек и медведь. Выбор медведя в данном случае далеке не случаен. Как считают многие исследователи, «в вопросе о сущности образа медведя особого внимания заслуживает мнение Б. Успенского, который справедливо отмечает двойственную природу образа медведя, видя его связь, с одной стороны, с Богом и православными святыми, а с другой, с нечистой силой (лешим, чертом)» [Кошкарова 2009, 98].
В «Медвежьей охоте», сохраняя основную мифологему Сибири, Логинов разворачивает ее на фоне святочной традиции, чуда, случившегося в сибирской тайге, где «ночью мрак, холод, яркие звезды, мерцающие на бархатном небе, и великое и мудрое молчание, таящее за собой смерть, единственную властительницу этого хмурого царства» [Логинов 1943, 67]. Чудом становится убийство медведя-шатуна двумя подростками из ружья, заряженного бекасной мелкой дробью. Композиция рассказа включает обрамление, внутри которого и выстаивается фабула, а само обрамление четко моделирует пантеистическое отношение к миру, пафос которого усиливается в финале. «Вот какое необыкновенное происшествие случилось под Новый год в глухой сибирской тайге, в урмане, в царстве хмурого мохнатого зеленоглазого бога, который любит и людей, и зверей, и птиц [Логинов 1943, 78].
По контрасту с пантеистической (языческой) моделью разворачивается повествование в рассказе «Старец». Рассказ начинается сценой встречи охотника Михайлы Бутыгина с медведем и их сражением не на жизнь, а на смерть. «Так ходили они, грузно утаптывая мокрую хвою, оба ворча и пыхтя, крепко обнявшись, точно самые лучшие друзья навек. Михай-ла Бутыгин норовил достать нож из-за пазухи, медведь норовил отгрызть ему голову» [Логинов 1943, 49]. Неожиданным поворотом повествования становится бегство медведя к старцу, который и примиряет двух недавних врагов. «Все звери – ребята хорошие, живут в мире, и Богу молятся, и Христа славят. Ты думаешь – зверь! А зверь так же молится, как человек. Еще лучше… Он чище человека, у него грехов меньше потому – тварь неразумная» [Логинов 1943, 53]. Образ старца в сюжете рассказа Логинова приобретает черты святого, а само повествование наделяется отчетливо агиографическими чертами. Старец не только превращает всех зверей в добрейших существ, но и объясняет Бутыгину, где находится украденная у него лошадь. Притчевый характер рассказа усиливается сентенцией, вложенной в уста охотника, в которой противопоставлен мифологизированный мир природы рациональному и бездушному миру цивилизации. «А вот у нас, в миру, плохо, отец, – сказал Михайла. – Все ссоры да раздоры. Хуже лютых зверей живем, прямо сказать. Вон – твои звери друг друга не трогают. А у нас норовит каждый друг друга укусить» [Логинов
1943, 55]. Таким образом, Логинову удалось, реализуя амбивалентную сущность мифологического образа медведя, мастерски вписать ее в общий строй мифопоэтики Сибири.
Не менее значимой в общем строе развернутой мифопоэтики оказывается мифология женских образов, обеспечивающих резкий сдвиг начальной сюжетной ситуации и направляющей повествование в новое русло. Обращаясь к женским образам, Логинов отчетливо противопоставляет их мужскому началу. Противопоставление идет по двум линиям – красоты и магии. Женской красоте противопоставляется мужская сила, магии – бесстрашие. Наиболее полно указанная оппозиция выявляется в рассказах «Дела Чингизовы» и «Басма». В «Делах Чингизовых» столкновение мужской силы и женской красоты достигает максимальной силы. Чингиз Хан «целые тысячи пленных привязывал к конским хвостам и пускал коней в степь. Целые города сжигал до основания. Вырывал языки и выкалывал глаза сотням могущественным повелителей разных стран и государств. Для него не было никаких законов. Единственный закон – это он сам, Чингиз Хан, Великий Царь Великого могульского народа» [Логинов 1943, 23]. Однако встретив в обозе дочь своего врага, «отец мой, Чингиз Хан, замер от восторга, от восторга замер и я. И наши сердца – сердца мужчин и воинов – размягчились, как свинец серебряной чашке от кумыса, поставленной на огонь» [Логинов 1943, 25]. Барма становится любимой женой Чингиз Хана, а после его смерти женой сына Удэгея.
Более интересно и искусно построен сюжет «Басмы», рассказа, опубликованного в сборнике 1930 г. «Ял-Мал», и по каким-то причинам не вошедшего в позднее собрание «Сибирь». Все повествование буквально овеяно дымкой магии, начиная со скульптурного экфразиса, изобразившего статую деревянного идола. «Вдруг на углу что-то глянуло на меня пристально тяжелым взглядом. Я в ужасе отпрянул. Огромный деревянный идол с глазами, сделанными из какого-то блестящего камня, казалось, молча осуждал мою дерзость» [Логинов 1930, 56]. Фигура идола предваряет встречу с магической женщиной Басмой, которая вскоре становится женой героя. В «Басме» магия и поэтика представляют два конфликтных состояния, где поэтика целиком погружает героя в состояние полной гармонии и единством с природой, а магия, напротив, создает ощущение постоянной тревоги и грядущего испытания. «Иногда сознание улетает от меня, как дым от костра, и тогда я чувствую себя и лесом, и небом, и болотной кочкой, и лиственным пнем, стоящим возле» [Логинов 1930, 58]. По мере развития сюжета «в очарование наших дней вторгся неуловимый дух тревоги. Началось с вещих снов Басмы. Не верить им было нельзя, видя ее безусловно мистическую веру и зная, что она лесная колдунья. Она часто просыпалась и плакала, и рассказывала о том, что видела толпу людей, ведущих меня, связанного, к жертвенному камню, к тяжелым стопам каменного идола» [Логинов 1930, 62]. Кульминацией рассказа становится битва взглядов Басмы, защищающей возлюбленного, и ее отца Паксы, желающего своим взглядом убить героя. Финал повествования – гибель Басмы и убийство Паксы подоспевшими охотниками. По обработке сюжета, драматизму действия «Басма» бесспорно принадлежит к числу наибольших прозаических удач Логинова.
В завершение обратим внимание на значимые для мифопоэтической тематики прозы Логинова особенности ритмической организации и лексического строя его текстов.
Сверхфразовые единства в рассмотренных рассказах, как правило, строятся в едином ритмическом строе, предполагающем расположение подобных по своей акцентно-слоговой структуре слов в равные синтагмы из двух-трех-четырех лексических единиц, что придает прозе характерный ритмический рисунок фольклорного тонического стиха.
Приведем пример двух-акцентного ритмического строя: «Кругом гОры, лесА, / дЕбри непроходИмые, / птИцы да звЕри, / да лЮди лихИе, / жЕлтые да косоглАзые / – даУре и анчАне / – с кОпьями в рукАх, / с кривЫми лУками, / которые лОвко умЕли / метАть стрЕлы» [Логинов 1943, 3].
Для прозы Логинова также характерно правило трех-акцентного ритмического строя, перемежающегося с двух-акцентным: «ЕрофЕй ПАвлович ХабАров, / широкоборОдый и осАнистый, / с бородОй крАсной, как огОнь, / – сидЕл в воевОдской избЕ, / на ширОкой лИповой лАвке / и пИл мЕдленными глоткАми / крЕпкую брАгу, / крУто запрАвленную мЯтой / и другИми трАвами» [Логинов 1943, 5].
У Логинова можно найти и прямые отсылки к народной тонике. Так, общей ритмической матрицей текста рассказа «Сибирь» выступает упоминавшаяся выше трех-акцентная песенная «сказка» о Ермаке Тимофеевиче, которую вычитывает («гнусит») отрок Кешка своему товарищу Пашке:
Я пришЕл к тебе, грОзный цАрь,
Со товАрищем, со ВАнькой КАином, Всех я сЕверных стрАн запечАтальник. ЗаполОнили мы цЕлую СибИрь, Да пришлИ к тебе с повИнной головОй; Хоть простИ, хоть казнИть велИ [Логинов 1943, 14].
В тексте рассказа можно найти периоды, практически равные, тождественные в своем тоническом строе этой песне (для наглядности разобьем цитируемый текст на стихи):
ПросвистЕли над ними метЕли вьЮжные, / протрещАли лютые мОрозы сибИрские, / поувЕчили, поранили их стрЕлы даУрские, / татАрские и анчАрские, / повЫжгло красное сОлнышко их щЕки впавшие, / закалило глОтки, высохшие от гОлода и жАжды [Логинов 1943, 12–13].
В самих акцентированных (опорных) словах в составе синтагм логи-новской прозы также можно выявить ритмико-смысловую закономерность.
Преимущественно ненулевая слоговая позиция ударения, формирующая собственно зачин прозаической синтагмы [Гиршман 2007, 258], соотносится с характерным семантическим фоном эпичности действия или описания, а также отдаленности события или ситуации от плоскости читательского восприятия.
Системно противоположная и преимущественно нулевая слоговая позиция ударения формирует синтагматический зачин с характерным семантическим фоном драматичности действия или описания, а также приближенности события или ситуации к плоскости читательского восприятия.
Описанное правило ритмического формирования зачина прозаической синтагмы повторяется в логиновских текстах, образуя соответствующий семантический фон.
Так, в рассказе «Дела Чингизовы» звучат эпичные ненулевые зачины: «ДостОйный сын Великого Чингиза готовился продолжАть дело своего отца, и велИкий род могулов любИл его и верил в него» [Логинов 1943, 20]; «Река СеленгА – сибирская река; отсюда дорОга в древний Китай; отсюда УгэдЕй хан продолжает свой главный путь в дрЕвнюю столицу ки-нов, продолжАет во главе сорока тысяч всадников в лисьих малахАях, с копьями в руках, с луками и колчанами за спиной» [Логинов 1943, 20–21].
Им противопоставляются драматичные нулевые зачины: «…срАзу глянула на него тысячами глаз прохладная сибирская ночь, пахнуло сЫростью с реки Селенги, закрякали сонно Утки в молчаливых камышах» [Логинов 1943, 21]; «…а Он все шел, вдыхая широкой грудью свЕжий ночной воздух, поглядывая на звездное нЕбо и на близкую рЕку, мОщно раскинувшую свое огромное водяное тЕло среди мертвых степей и лесов» [Логинов 1943, 22].
В некотором приближении данная закономерность отвечает известному правилу противоположной семантической нагруженности (лиро-эпической vs лиро-драматической) анакрузы ямба и хорея в русской стихотворной традиции.
В аспекте художественного конструирования сибирской мифологической картины можно рассматривать и особенности лексической стилизации прозы Логинова, как в описании, так и в прямой речи персонажей. Эта стилизация проходит по линиям приподнятого (высокого) стиля, смешанного с элементами стиля фольклорно-эпического, а также просторечия.
Так, в рассказах «Сибирь» и «Начало похода» в изобилии находим элементы высокого стиля (курсив наш): «Вольные мы люди, посланы от благолепных торговых людей Аникеевых» [Логинов 1943, 4]; «Хабаров стоял, как монолитный сияющий столп » [Логинов 1943, 164]; «…имени-тый и благолепный гость Максим Строганов» [Логинов 1943, 163]; «…ста-рец-бродяга… громогласно читал» [Логинов 1943, 164].
Там же встречаются лексические элементы фольклорно-эпического стиля: « Удалые добрые молодцы, буйные головушки , крестьяне, сбежавшие от бояр, стрельцы, напроказившие на царской службе» [Логинов 1943, 165].
В прямой речи персонажей приподнятый стиль сочетается с просторечием: «А мы под нози его Сибирь повергнем … – сказал Ермак» [Логинов
1943, 163], и ниже: « Ништо . Виселицей не запугаешь. А может заместо виселицы царская ласка будет» [Логинов 1943, 164].
Смешение лексики различных стилей и речевых практик выступает в поэтике Логинова средством конструирования художественно действенного мифологического образа вольных сибирских землепроходцев.
Таким образом, общий мифопоэтический строй, характеризующий сибирскую тему в творчестве Логинова, усиливается обилием набора языковых средств и особенностью ритмической организации текстов.
Список литературы Мифопоэтика Сибири в творчестве В.С. Логинова
- Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.: Языки славянской культуры, 2007. 555 с. EDN: SUQGTF
- Козубовская Г.П. Рубеж XIX-XX веков: миф и мифопоэтика. Барнаул: Алтайская государственная педагогическая академия, 2011. 316 с.
- Кошкарова Ю.Н. К вопросу о взаимосвязи образов медведя и лешего в русской народной традиции // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История, Политология, Экономика, Информатика. 2009. № 9(64). С. 97-102.
- Логинов В. Басма // Логинов В. Ял-Мал. Харбин: Бамбуковая роща, 1930. С. 56-65.
- Логинов В. Сибирь. Харбин: Наука, 1943. 290 с.
- Марков А.В. Феноменологические аспекты структуралистского литературоведения В.Н. Топорова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 62. С. 226-237. EDN: DLQKYU