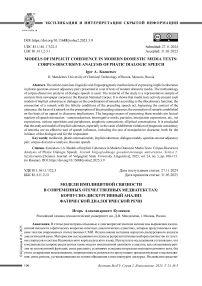Модели имплицитной связности в современных отечественных медиатекстах: корпусно-дискурсивный анализ фатической диалогической речи
Автор: Кузнецов И.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Экспликация и интерпретация скрытой информации
Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены языковые и лингвопрагматические механизмы выражения имплицитной связности в фатических вопросно-ответных диалогических единствах, которые представлены в массиве текстов современных отечественных СМИ. Использована методика корпусно-дискурсивного анализа диалогической речи. Материалом исследования послужила репрезентативная выборка контекстов из газетных корпусов в составе Национального корпуса русского языка. В результате исследования установлено, что в медиатекстах широко реализуются такие модели имплицитной связности в диалоге, как согласование реплик по иллокутивной функции; связь реплики с условиями успешности предшествующего речевого акта, без учета содержания высказывания; направленность реплики на презумпцию предшествующего высказывания; связь реплик, устанавливаемая на основе обращения к импликатурам дискурса. Языковыми средства ми выражения данных моделей служат лексические маркеры речевого взаимодействия: коммуникативы, вопросительные слова, частицы, междометные выражения и др., устойчивые речевые формулы, разного рода повторы и перифразы, анафора, неполнота конструкции. Сделан вывод о том, что проанализированные модели имплицитной связности, особенно в случаях осознанного нарушения прагматической согласованности реплик, являются для инициатора диалога и отвечающего эффективным инструментом речевого воздействия, в том числе манипулятивного характера.
Медиатекст, фатическая коммуникация, имплицитная связность, модели диалога, вопросно-ответное единство, корпусно-дискурсивный анализ, русская речь
Короткий адрес: https://sciup.org/149149131
IDR: 149149131 | УДК: 811.161.1’322.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.3.9
Текст научной статьи Модели имплицитной связности в современных отечественных медиатекстах: корпусно-дискурсивный анализ фатической диалогической речи
DOI:
Фатическая сторона речевого взаимодействия, начиная с работ Р.О. Якобсона (см., например: [Якобсон, 1975]), находится в центре исследовательского внимания в современном лингвистическом диалоговедении. Фати-ка, в противовес информатике, трактуется как общение, имеющее целью само общение, то есть ориентированное на установление взаимопонимания между собеседниками, на регулирование межличностных отношений [Винокур, 1993], порою в ущерб необходимости в обмене информацией. Именно фатическая коммуникация играет основополагающую роль в реализации важнейшего принципа нормального общения – принципа вежливости [Leech, 1983]. При этом лингвопрагматические модели дискурсной организации фатики во многом опираются на имплицитные механизмы языка, на разного рода конвенциональные схемы и прочие средства непрямого выражения информации, которые и являются областью настоящего исследования.
В наших предыдущих работах мы уже говорили о существенном воздейственном потенциале фатической коммуникации в русской речи [Кузнецов, 2024]. Особенно ярко этот потенциал выражается в «дискурсах активного воздействия» [Соколова, 2017], к которым относится и медийный дискурс как среда манифестации активных процессов в языке [Новые тенденции..., 2016]. В прагматике медиаречи, в условиях повышенной эмоциональности и экспрессии [Zappettini, Ponton, Larina, 2021], реализуются самые разнообразные пер-суазивные коммуникативные стратегии, в том числе манипулятивного типа [Цветова, 2020;
Палехова, 2025], а также разного рода коммуникативные сбои [Cobley, 2004] и коммуникативно-прагматические аномалии [Русский язык..., 2021], и во многом они основаны на имплицитной информации [Carston, 1988; Рад-биль, 2023]. Все это характерно и для диалогического компонента медиатекстов.
Непосредственным предметом предпринятого исследования выступают вопросно-ответные диалогические единства как прототипическая разновидность диалогических единств, выступающих в роли минимальных единиц диалогического общения [Баранов, Крейдлин, 1992]. Описываются виды имплицитной связности в диалоге (их типология разработана в трудах Е.В. Падучевой; см., например: [Падучева,1982]) как воплощение более общих прагмалингвистических механизмов имплицитной предикации [Арутюнова, 1976; Федосюк, 1988].
Таким образом, цель настоящего исследования состоит в выявлении и интерпретации моделей имплицитной связности в фати-ческих вопросно-ответных диалогических единствах в составе медиатекстов.
Материал и методы
Материал анализа – подкорпус вопросно-ответных диалогических единств, сформированный на основе газетных корпусов в составе Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Объем материала составил порядка 300 диалогических единиц.
Теоретическая база исследования опирается на разработки в области зарубежной когнитивной прагматики [Orr, Ariel, 2021], экспериментальной прагматики [Noveck, 2021] и
«аффективной прагматики» [Scarantino, 2017], а также на отечественный методологический инструментарий когнитивно-дискурсивного изучения дискурсивных практик разного типа [Чернявская, 2018; Радбиль, Помазов, 2020; Русский язык..., 2021]. Использована методика корпусно-дискурсивного анализа [Рад-биль, 2024].
Принятая в работе аналитическая процедура основана на восходящем к работам Н.Д. Арутюновой теоретическом понятии имплицитно предицируемых сообщений [Арутюнова, 1976], трактуемых как «информация, которая добавляется к содержанию воспринятого сообщения под влиянием имеющихся в сознании получателя текста знаний о действительности. <...> Как показывают наблюдения, импликации могут нести информацию не только об описываемой в тексте ситуации, но и об отправителе этого текста, а также о ситуации, в которой происходит передача самого текста» [Федосюк, 1988, с. 22]. Последнее обстоятельство, применительно к диалогическим текстам, переводит данную информацию в разряд фатической.
В коммуникативном пространстве диалогического общения информация подобного рода реализуется посредством разных видов прагматических связей реплик в диалоге, описанных в работе Е.В. Падучевой: «Прагматические связи – это такие, в которые существенным образом включается речевой акт, с его условиями успешности, его участниками, презумпциями этих участников, с естественными законами сочетаемости речевых актов друг с другом и т. п.» [Падучева, 1982, с. 306]. Ученым исследуются четыре типа имплицитной прагматической связности: 1) согласование реплик по иллокутивной функции; 2) связь реплики с условиями успешности предшествующего речевого акта, минуя содержание высказывания; 3) направленность реплики на презумпцию предшествующего высказывания; 4) связь реплик, устанавливаемая на основе обращения к импликатурам дискурса [Падучева, 1982, с. 313]. Языковыми средствами актуализации имплицитных связей служат лексические маркеры речевого взаимодействия – коммуникативы, вопросительные слова, частицы, междометные выражения и др., а также устойчивые рече- вые формулы разного рода повторы и перифразы, анафорические связи, неполнота конструкции и т. п.
Подчеркнем, что в материал исследования мы включаем также условно фатические диалоги, в которых фатический компонент не отменяет информативный, но присутствует в фоновой, имплицитной зоне в качестве добавочной информации об условиях ведения диалога, об отношениях коммуникантов друг к другу или к ситуации в целом и пр.
Анализируются вопросно-ответные единства, содержащие имплицитно предици-руемые сообщения (как в зоне инициатора диалога, так и в речевой зоне адресата), которые, будучи реально прагматически согласованными, воплощают в себе разные типы формальной, внешней рассогласованности; также в сферу нашего интереса входят и обратные случаи, когда при внешней, формальной согласованности реплик, подчиненных принципу «иллокутивной вынужденности» [Баранов, Крейдлин, 1992], реально, в прагматике общения, возникают коммуникативные провалы [Cobley, 2004].
Результаты и обсуждение
Ниже представлена интерпретация выделенных Е.В. Падучевой четырех видов прагматических связей в диалоге, которые в работе именуются «модели имплицитной связности».
-
1. Явления согласования реплик по иллокутивной функции, а также разнообразные случаи несогласованности реплик по этому параметру. К явлениям формального согласования реплик по иллокутивной силе, применительно к вопросно-ответным единствам, относятся стандартные модели «вопрос» – «сообщение». В нашем материале, однако, представлены случаи, когда эксплицитная согласованность реплик реально, в имплицитной области, отражает прагматическую несогласованность, точнее – рассогласованность, например:
-
(1) – Ваши слова: «Магаданец – это навсегда». Магаданцы – они особенные ? // – Да, куда бы ты ни уехал – ты все равно магаданец (Аргументы и факты. 23.04.2020).
Пропозиция в реактивной реплике не отвечает на вопрос инициатора диалога, особенные ли магаданцы, а подтверждает содержание предшествующей пропозиции: ‘Магаданец – это навсегда’.
-
(2) – Актер – не творческая единица, он инструмент? // – Такого я не говорил . Кино – это совместное творчество (Ведомости. 23.05.2014).
В ответной реплике адресатом отрицается сам факт утверждения им информации, которая содержится в пропозиции вопроса инициатора диалога: ‘Актер – не творческая единица, он инструмент’; но ведь при этом инициатор и не приписывал эти слова отвечающему, он просто запрашивал недостающую информацию. Явления такого рода можно назвать «ложное имплицитно предицируемое сообщение» со стороны адресата.
Ниже приводится распространенный случай, когда при внешней согласованности по иллокутивной силе имеет место прагматическое рассогласование, когда в ответе содержится не та информация, которая запрашивается:
-
(3) Иванова : – Поэтому условия, которые предлагают школы, на данном текущем этапе проекта не очень выгодны для нас. // Зюзяев : – Сколько они хотят ? // Иванова : – Все хотят разного (Комсомольская правда. 21.02.2013).
В вопросе содержится запрос о количестве необходимых средств, а в ответе – констатирующая информация о том, что субъекту необходимы разные вещи.
В нашем материале имеются примеры, в известном смысле противоположные рассмотренным выше, когда внешнее рассогласование реплик по иллокутивной силе, например часто встречающиеся модели ответа вопросом на вопрос, при этом имеет прагматическую мотивированность в интенциональной сфере говорящего, при использовании им особых коммуникативных стратегий, зачастую манипулятивного типа:
-
(4) Черных : – Что происходит в Минобороны, что в ЖКХ происходит? // Делягин : – А что происходит в местных органах власти ? (Комсомольская правда. 15.02.2013).
В данном примере использована манипулятивная стратегия перемена темы, когда адресат вместо ответа на неудобный для него по каким-то причинам вопрос сам задает вопрос по «зеркальной модели», тем самым перехватывая инициативу в коммуникативной ситуации. В наших работах это именуется «манипулятивное передразнивание» («стратегия отзеркаливания») [Кузнецов, 2024].
-
(5) [ Боец – водителю фуры ]: – Груз есть? // – А вы имеете право спрашивать ? (Московский комсомолец. 03.02.2016).
-
2. Связь реплики с условиями успешности предшествующего речевого акта, минуя содержание высказывания. Под условиями успешности (felicity conditions) речевого акта Дж.Р. Серль понимает совокупность сопутствующих высказыванию невербальных компонентов смысла, содержащих информацию об объективных и субъективных условиях, при которых иллокутивная сила речевого акта будет успешно реализована в коммуникативной ситуации. Дж.Р. Серль выдели четыре группы условий успешности: предварительные условия, существенное условие, условие искренности и условие ограничения на пропозициональное содержание [Серль, 1986]. Здесь мы ограничимся только двумя типами: предварительные условия и условие искренности, потому что именно они в нормальных условиях общения не вербализуются, то есть опускаются в область имплицитных смыслов.
Здесь использована стратегия «выход на метауровень» [Кузнецов, 2024], когда адресат, вместо предоставления в запрашиваемой в вопросе информации, переходит на личности, то есть на выяснение прав и возможностей инициатора диалога, границ его компетенции.
Часто имплицитная связность реализуется за счет апелляции отвечающего к условию искренности в пропозиции вопроса, которое заключается для речевого акта вопроса в следующем: ‘Говорящий искренне хочет иметь информацию’. Прагматическое рассогласование на имплицитном уровне может состоять в том, что отвечающий сомневается в искренности спрашивающего, не верит в нее, как в следующих примерах:
-
(6) – У вас очень много компаний. Можете назвать цифру единиц вашего бизнеса? Сколько у
вас фирм? // – А вам это зачем ? (Новый регион 2. 14.11.2007);
-
(7) – Девушка, а как вас зовут? // – А вам это зачем ? (Коммерсант. 18.11.2002).
В другой разновидности адресат, вместо информативного ответа, запрашивает подтверждение, что условие искренности инициатором диалога выполнено – имплицитно пре-дицируемое сообщение: ‘Подтверди, что ты на самом деле хочешь получить от меня эту информацию’, например:
-
(8) – Лучано, вы определились, что делать с арендованными футболистами? // – Да. А вы тоже хотите знать , что я решил ? (Советский спорт. 22.07.2011).
Как видим, это выражается в устойчивых типизированных речевых схемах типа А тебе / вам это зачем ( знать )? Или А ты / вы это хочешь / хотите знать ? и т. п.
Имплицитная связность может реализоваться посредством обращения адресата к предварительному условию успешности речевого акта вопроса: ‘Говорящий не знает информации, которую запрашивает в вопросе’. В этих случаях прагматическое рассогласование в зоне имплицитной связности актуализируется в экспликации отвечающим пропозиции, содержащей информацию о том, что инициатору диалога уже известен ответ на его вопрос, например:
-
(9) – Можем мы стать чемпионами мира в 2018 году? Извини за бредовый вопрос. // – Ну вы ведь сами знаете ответ ! (Советский спорт. 09.11.2011);
-
(10) – Но почему мы врачей сейчас видим в таких «средствах гигиены»? // – Полагаю, ответ вы и сами знаете . СИЗ появились не вчера – это вековая история (Аргументы и факты. 24.04.2020);
-
(11) – Они здесь на каких правах? – интересуется стоящими киосками корреспондент. // – Сами знаете на каких, – отвечает женщина. Не подмажешь – не подъедешь (Vesti.ru. 09.02.2016).
Еще одна разновидность подобных нарушений предварительного условия успешности вопроса может выражаться в модели ответа вопросом на вопрос, но при этом вопрос в ответной реплике является косвенным сильным утверждением, например:
-
(12) На вопрос: «В чем дело?» – они отвечали одно и то же: « Вы разве не знаете ?» (Аргументы и факты. 10.11.2004);
-
(13) – А они во МХАТе бывали? // – Ты разве не знаешь ? Не интересовался? (Известия. 08.07.2001);
-
(14) Я спросил ее: «Что это такое?» // – « Вы разве не знаете ? Свежее молоко» (Российская газета. 07.05.2018).
3. Направленность реплики на презумпцию (пресуппозицию) предшествующего высказывания, когда ответная реплика содержит информацию, относящуюся не к эксплицированной части пропозиции вопроса, а к его пресуппозици-онному компоненту.
Пресуппозиция как условие осмысленности высказанной пропозиции является необходимым имплицитным компонентом высказывания обладающим свойством неустранимости при отрицании пропозиции [Федосюк, 1988]. Пресуппозиции делятся на семантические и прагматические [Падучева, 1982].
Это тип имплицитной связности задается в ответной реплике посредством типизированных речевых формул типа Ты / вы же сам / сами знаете ( ответ ) или Ты / вы разве не знаешь / не знаете? и т. п. При внешней тавтологичности подобный тип нарушения предварительных условий успешности может быть прагматически мотивирован специфическими установками отвечающего, которые заключаются в выражении косвенным образом его убежденности в неуместности вопроса или общеизвестности ответа, а также нежелания продолжать коммуникацию на озвученную тему и пр.
Семантическая пресуппозиция имплицируется значением слов или содержанием выражений, образующих эксплицированную пропозицию. Реакцию на семантическую пресуппозицию видим в следующем примере:
-
(15) КП : – Как же через границу прорывались? // А. Л .: – Да не было тогда никакой границы (Комсомольская правда. 19.04.2012).
Здесь в ответной реплике об отсутствии границы содержится реакция не на пропозицию вопроса, а на его пресуппозицию: ‘Имела место граница’.
Возможны и прагматические нарушения при реализации имплицитной связности по- средством направленности реплики отвечающего на семантическую пресуппозицию реплики инициатора диалога:
-
(16) Делягин : – Кто ж его посадит с 6 миллиардами? // Смирнов : – За то, что он подвел страну (Комсомольская правда. 12.02.2013).
В реплике инициатора диалога содержится пресуппозиция: ‘Его никто не посадит’, а в ответной реплике в имплицитной зоне утверждается, что его посадят, при экспликации, за что посадят.
-
(17) – Материнство вас сильно изменило? // – Во мне очень многое поменялось, когда умерла моя мама , царствие ей небесное. Мне было очень тяжело. И я тогда поняла одно: самое главное – это семья (Комсомольская правда. 07.11.2013).
В пресуппозиции реплики инициатора диалога содержится смысл: ‘вы являетесь матерью’, а в ответной реплике речь идет о матери адресата, но не о ней как матери. Имеет место реакция на значение лексемы мать , а не на ее ситуативную референциальную отнесенность.
Прагматическая пресуппозиция имплицируется общей информацией, известной и адресанту, и адресату из контекста или ситуации. Реакция на прагматическую пресуппозицию отражена в примере:
-
(18) Хрущев : – Ты что ж меня без подарка оставил , генерал? // Серов : – А как же ваза, Никита Сергеевич? Я же вам вазу подарил . Вон она на столике красуется (Комсомольская правда. 18.04.2013).
Здесь имплицитная связность создается на основе известного обоим коммуникантам обстоятельства, что для адресата, имеющего определенные финансовые возможности, ваза – слишком простой и дешевый подарок. Это подтверждается продолжением диалога:
Хрущев : – Красуется, говоришь?! А украденная тобой бельгийская корона где красуется? (Комсомольская правда. 18.04.2013).
В этих случаях также возможны прагматические нарушения, когда адресат реагирует на прагматическую пресуппозицию реплики инициатора диалога с разного рода отклонениями от ее содержания, например:
-
(19) – И в нем найдется работа каждому. Все должно зацвести, завибрировать. Огромные деньги, которые есть, должны быть направлены в развитие, в университеты. Все должно быть переименовано // – Как – опять ? // – Да я не о том! В центре страны должен перестать стоять купец, стяжатель, потребитель (Комсомольская правда. 26.02.2013).
Здесь в зоне общей для адресанта и адресата культурно-исторической информации как компонента прагматической пресуппозиции находится факт переименования городов, улиц, организаций и пр., на что отреагировал адресат посредством недоуменной вопросительной реплики. Однако инициатор диалога имел в виду перемены в социальном устройстве государства по существу, но не смену номинаций.
-
(20) КП : – Дорогие подарки получать не зазорно ? // Чаплин : – Если люди любят священника, как любили святого Иоанна Кронштадтского, то ему действительно и машины дарят, и квартиры (Комсомольская правда. 03.09.2012).
4. Связь реплик, устанавливаемая на основе обращения к импликатурам дискурса.
Под импликатурами дискурса обычно понимается невербализованная информация, выводимая из постулатов общения и опирающаяся на соблюдение коммуникантами принципа кооперации [Грайс, 1985], например, говорящий искренне хотел выразить определенную мысль косвенным образом в надежде, что адресат сможет распознать заложенное содержание. По мнению Е.В. Падучевой, именно речевые импликатуры определяют небуквальное понимание выражений, эксплицитно алогичных, тавтологичных или противоречивых [Падучева, 1982].
В этом примере прагматическая пресуппозиция опирается на общеизвестное расхожее мнение, что священникам, в силу их бескорыстного служения Богу и людям, обычно не свойственно получать дорогие подарки. Именно на эту пресуппозицию и реагирует отвечающий. Манипулятивность данного приема заключается в том, что здесь осуществлена коммуникативная стратегия подмены тезиса: в ассертивной части пропозиции вопроса инициатора диалога эксплицирован запрос о нравственной приемлемости получения дорогих подарков, что отвечающим остается без внимания.
Прагматические нарушения имплицитной связности, основанные на импликатурах дискурса, которые связаны с небуквальной интерпретацией алогизма или противоречия, могут быть прагматически мотивированными установкой адресата на иронию:
-
(21) Зарецкий : – Это наш маленький дружный коллектив к вашим услугам. // Антонов : – Четверо , это полный состав ? // Зарецкий : – Еще ноутбук , но сегодня мы без него обойдемся (Комсомольская правда. 16.02.2013).
Здесь иронически обыгрывается буквально бессмысленная ситуация: ноутбук, будучи неодушевленной сущностью, может мыслиться как участник группы музыкантов.
Логическое противоречие может возникать и непреднамеренно, приводя к коммуникативным сбоям:
-
(22) КП : – Давно были в Молдавии? // В. М.: – Физически – года четыре назад (Комсомольская правда. 13.08.2012).
В примере аномально имплицируется предположение отвечающего о том, что в каком-либо месте можно находиться как-то иначе, не физически.
Прагматически мотивированным может быть обращение к импликатурам дискурса, основанным на небуквальной интерпретации тавтологии, что обычно связано с полным или частичным повтором предыдущей реплики или ее компонента адресатом (в нашей терминологии – «стратегия отзеркаливания») [Кузнецов, 2024]:
-
(23) – Согласны ли вы с тем, что нужно как-то защищать публичные фигуры от журналистов, потому что они переходят определенную грань? // – А почему только публичных ? (Комсомольская правда. 18.02.2013).
Здесь вполне оправданным видится повтор ключевого слова публичные в целях расширения круга лиц, потенциально нуждающихся в защите от нападок журналистов.
Иногда с помощью частичного повтора компонентов реплики инициатора диалога отвечающий осуществляет коммуникативную стратегию разъяснения своей позиции, например:
-
(24) – Экологи – злодеи ? // – Они прикрываются вывеской экологов , а на самом деле отъявленные злодеи (Комсомольская правда. 24.07.2012).
Вполне мотивирована прагматически мена формы ключевого глагола с 3-го лица в возвратном употреблении в реплике инициатора диалога на 1-е лицо в активном залоге в реплике адресата в примере:
-
(25) – Но – главное – завод сохранится ? // – Завод сохраним (Vesti.ru. 26.12.2015).
«Отзеркаливание» с изменением залоговой формы глагола подчеркивает, что адресант берет на себя ответственность за совершение указанного действия в будущем.
Иногда установка на осознанное обыгрывание в ответе метафорической семантики употребленных инициатором диалога слов маркируется в ответной реплике кавычками, например:
-
(26) – И что теперь? Миллиард – на ветер ? // – Вот когда будет принято решение, что делать с домами, тогда мы поговорим про «ветер» , – говорит глава Березников Сергей Дьяков (Комсомольская правда. 11.04.2013).
Однако и в этих случаях мы иногда можем фиксировать прагматические нарушения в реализации имплицитной связности, основанной на обращении к импликатурам дискурса посредством повтора компонентов предыдущей реплики:
-
(27) Яковлев : – Нам нужна приватизация или нет? // Ясина : – И приватизация тоже (Комсомольская правда. 05.07.2013).
Здесь в ассертивной части пропозиции вопроса инициатора диалога содержится строгая дизъюнкция – нужна или не нужна приватизация. В ответной реплике происходит переключение на операцию присоединения, причем приватизация в этой конструкции попадает в разряд добавочной, присоединительной информации по отношению к основной, неназванной, подразумеваемой. Тем самым в этой модели в реплике адресата незаметно происходит смещение логического акцента с приватизации на что-то более, с его точки зрения, важное, что не соответствует пропозиции вопроса со стороны инициатора диалога.
Заключение
В целом исследование показало, что прагмалингвистические механизмы передачи неявно выраженной информации об условиях общения, коммуникантах, отношении собеседников друг к другу и пр. посредством моделей имплицитной связности в фатичес-ких и условно фатических диалогах в составе медиатекстов чрезвычайно богаты и разнообразны и могут вводиться в дискурс с помощью разноуровневых языковых средств.
Охарактеризованные модели имплицитной связности, особенно в случаях осознанного нарушения прагматической согласованности реплик, являются и для инициатора диалога, и для отвечающего эффективным инструментом речевого воздействия, в том числе манипулятивного характера. В этих моделях реализуются такие коммуникативные стратегии, как манипулятивная перемена темы или уход от неудобной темы, манипулятивное «передразнивание», смещение логических акцентов, выход на метауровень и т. д. При актуализации имплицитной связности в диалогическом тексте возможны и немотивированные нарушения прагматической согласованности реплик, что способствует коммуникативным сбоям.