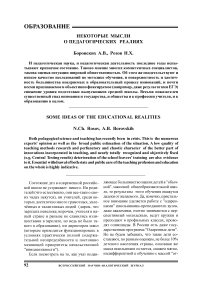Некоторые мысли о педагогических реалиях
Автор: Боровских А.В., Розов Н.Х.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Образование
Статья в выпуске: 4 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
И педагогическая наука, и педагогическая деятельность последние годы испытывают кризисное состояние. Таково мнение многих компетентных специалистов, такова оценка ситуации широкой общественностью. Об этом же свидетельствуют и низкое качество исследований по методике обучения, и поверхностность и хаотичность большинства внедряемых в образовательный процесс инноваций, и почти всеми признаваемое и объективно фиксируемое (например, даже результатами ЕГЭ) снижение уровня подготовки выпускников средней школы. Весьма показателен существенный спад внимания и государства, и общества и к профессии учителя, и к образованию в целом.
Короткий адрес: https://sciup.org/14214411
IDR: 14214411
Текст научной статьи Некоторые мысли о педагогических реалиях
Боровских А.В., Розов Н.Х.
И педагогическая наука, и педагогическая деятельность последние годы испытывают кризисное состояние. Таково мнение многих компетентных специалистов, такова оценка ситуации широкой общественностью. Об этом же свидетельствуют и низкое качество исследований по методике обучения, и поверхностность и хаотичность большинства внедряемых в образовательный процесс инноваций, и почти всеми признаваемое и объективно фиксируемое (например, даже результатами ЕГЭ) снижение уровня подготовки выпускников средней школы. Весьма показателен существенный спад внимания и государства, и общества и к профессии учителя, и к образованию в целом.
SOME IDEAS OF THE EDUCATIONAL REALITIES
N.Ch. Rosov, A.B. Borovskih
Both pedagogical science and teaching has recently been in crisis. This is the numerous experts' opinion as well as the broad public estimation of the situation. A low quality of teaching methods research and perfunctory and chaotic character of the better part of innovations incorporated in teaching, and nearly totally recognized and objectively fixed (e.g. Central Testing results) deterioration of the school leavers' training are also evidence to it. Essential withdrawal of both state and public care of the teaching profession and education on the whole is highly indicative.
Состояние дел в современной российской школе не устраивает никого. Ни родителей (что естественно, они все-таки о своих чадах пекутся), ни учителей, среди которых достаточно много грамотных, увлечённых и талантливых людей (даром, что зарплата невелика; впрочем, учителя в нашей стране и раньше не славились излишествами в зарплате, но ведь не было такого в образовании), ни директоров школ (которым приходится функционировать в условиях практически полной содержательной неопределённости и постоянно меняющей приоритеты начальственной "инициативности").
Если посмотреть на то, как учат подав- ляющее большинство наших детей в "обычной", массовой общеобразовательной школе, то результаты этого обучения окажутся далеки от желаемого. Да, конечно, пристальное внимание уделяется работе с "одаренными" школьниками-преподаватели вузов, даже академики, охотно занимаются с перспективный молодежью, ведут кружки и преподают в профильных классах, проводят олимпиады. В России есть даже государственная программа "Одаренные дети". Но не будем забывать, что такие дети составляют, по разным оценкам, не более 10% детского населения страны, основная же масса школьников остается, скажем мягко, индифферентной к обучению с массой "от- стающих" детей. Некоторые специалисты оценивают долю очень слабо успевающих школьников как "большую половину" (что, кстати, не сильно расходится с результатами ЕГЭ). Не пора ли всерьез продумать цели и способы работы с этими детьми, не настало ли время создать государственную программу "Неодаренные дети". (Пусть меня извинят за этот оскорбительный термин, но хочется привлечь внимание к проблеме.)
Сегодня мы можем похвалиться всевозможными "новыми" организационными формами (гимназии, лицеи, профильные школы, тьюторство, репетиторство и пр.) и различными "новыми" методами обучения и воспитания, и нескончаемым потоком разнообразных "инициатив", "программ", "начинаний", "реформ", "перестроек", не будем все это перечислять подробно. К сожалению, практически все эти "инновации" на поверку оказываются в лучшем случае громкими лозунгами, а в худшем - просто закамуфлированным лоббированием тех или иных корпоративных или личных интересов, далёких от образования. Подавляющая часть "инноваций" в "массовое производство" не выходят никогда (а порой оказываются попросту брошенными и забытыми в угоду следующей поступившей инициативе). А те, которые доходят до всех (интернетизация обучения, ЕГЭ, "менеджмент качества" и т.п.), носят настолько бюрократический характер, что приносят не пользу, а вполне очевидный вред.
Сложившаяся ситуация означает одно: корень проблем надо искать не в учителях (которые всегда были разные - кто лучше, кто хуже), не в учебниках (и они, при всей разнородности подходов, не самые плохие, а их улучшение потребовало бы не слишком больших организационных усилий -было бы желание) и даже не в министре (министры у нас приходят и уходят, а проблемы почему-то остаются).
Узловым центром сложившейся ситуации является проблема целей и функций образования.
Проблема эта состоит, прежде всего, в том, чтобы чётко и ясно ответить на ключевой вопрос: для чего мы даём детям образование, какова цель обучения молодёжи? Ясно, что образование готовит детей, но -к чему? Вроде бы, уже не для того, чтобы строить коммунизм. Сегодня понятно, что и вовсе не для того, чтобы все стали учёными, исследователями, первоклассными специалистами. И, главное, и, возможно, неожиданное для многих, совсем не для того, чтобы получить конкретную профессию. Об этом мы и поговорим ниже.
Анализируя современное состояние школы, хотелось бы высказать утверждение, шокирующее только на первый взгляд: система образования как государственный и общественный институт "потеряла" цель образования. Поговорим об этом подробнее.
В отечественной политике в течение практически всей второй половины XX века доминировала ставка на достижения науки и техники, а потому целью образования в нашей стране была подготовка молодёжи к научно-технической деятельности, то есть к открытию новых явлений, к разработке и созданию на основе этих открытий новых образцов техники (в первую очередь, военной). Но, начиная с 90-х годов прошлого века научно-технический прогресс "забуксовал" (отчасти по внутренним причинам, отчасти благодаря влиянию извне). Всеобщий интерес населения стали привлекать не научные результаты, а прогнозы магов, гадалок, ясновидящих, астрологов. (По приблизительным оценкам сегодня в России прибыльно процветают около 100000 предсказателей разных мастей.) Да и политическая парадигма резко сместилась с научных и социально-экономических вопросов в область манипулирования людьми. Широчайшую востребованность и популярность получили менеджмент, различные специализации юридического, экономического, психологического, социологического, полит-технологического профилей.
Первое время это давало какой-то эффект,
Розов Н.Х.
но дальнейшее развитие событий убедительно показало, что все эти науки не обладают какой-либо мощной фундаментальной базой, чтобы обеспечивать постоянный гарантированный успех. Тем более, что те или иные успешно действующие методики и наработки, будучи хотя бы раз применёнными, мгновенно становятся достоянием конкурентов (в этом отличие гуманитарных технологий от естественнонаучных - их нельзя "скрыть" в продукте). Так что, в конце концов, все вернулось (или неуклонно возвращается) "на круги своя" - к методам управления, характерным для "советской власти". Пожалуй, добавилось только два новых явления - обеспечение "права" и защита "частной собственности" оказались поручены киллерам, а чиновники, учитывая новые "рыночные отношения", приступили к торговле государственной властью.
Итак, серьёзная наука - как естественная, так и гуманитарная - оказалась для политики и политиков совершенно ненужной, и поэтому концепция "цель образования -подготовка к научно-технической деятельности", которая считалась безусловной в течение около полувека, растаяла, как вчерашний снег. Явным проявлением этого феномена является разгулявшийся сейчас в полную силу непрерывный процесс сокращения часов на фундаментальные школьные дисциплины, произвол в формировании перечня школьных предметов и в определении их содержания.
Конечно, теоретически говоря, имеется, на первый взгляд, самоочевидная и легко реализуемая возможность - вернуться к целям образования "предыдущего" периода. А в минувшие времена (довоенные и даже дореволюционные) основной целью образования являлось получение профессии. И вот тут-то нас поджидает сюрприз.
Да, действительно, ещё совсем недавно практически каждый человек всю свою жизнь существовал в рамках одной-един-ственной профессиональной деятельности. Он получал соответствующее образование в молодости (в вузе, техникуме или ПТУ), и оно верой и правдой служило ему основой для работы по определённой специальности, обеспечивая достаточный "запас" необходимых знаний и умений на будущее. Смена профессии была большой редкостью, воспринималась как "несостоятельность", как жизненная если не трагедия, то, по крайней мере, драма. Человек, рискнувший поменять специальность, считался в лучшем случае неудачником и вызывал сочувствие.
Но вот "лихие 90-е" вынудили целые поколения - выпускников вузов, технических работников, инженеров, ученых, даже рабочих - сменить профессию. Поскольку это произошло в массовом масштабе, то было воспринято без особых личностных комплексов (что поделаешь, если беда общая), но притом ещё выяснилось, что ничего трагического в таком изменении характера работы нет. За 10 - 12 лет (нормальный средний возраст становления профессионала) весьма значительная часть людей добилась вполне приличных успехов в новой для себя области деятельности - кто в предпринимательстве, кто в политике, кто в информатизации, кто в эмиграции, кто в чиновниках, а кто - в банковских, биржевых и прочих спекуляциях.
Но главным было не это - главным было создание прецедента. Если человек поменял профессию один раз, то почему бы ему не поменять её и вторично, если прежняя уже надоела, или исчерпала себя, или не даёт больше возможностей для развития? И вот в итоге оказалось, что смена профессии в поколении нынешних 40 - 50-летних людей стала не чем-то из ряда вон выходящим, как это было раньше, а обыденностью. А в более молодых поколениях - просто нормой. Произошла этакая профессиональная депривация: человек перестал воспринимать ту или иную профессию как неотделимую от себя, а её выбор из жизненно важного судьбоносного решения превратился в текущую рядовую тактическую задачу, требующую только оценить конъюнктуру рынка профес- сий и выбрать наиболее выгодный (в финансовом отношении) вариант. Всё сказанное можно было бы отнести на счёт "временных трудностей переходного периода", но вот только сам переходный период постепенно уже превратился во вполне стабильное состояние.
Так не пора ли нам все-таки задуматься над парадоксальностью ситуации, когда полученное образование слишком часто оказывается человеку не нужным, остаётся невостребованным сразу же за дверями вуза? Нет ли здесь чего-то более существенного, более определяющего, более содержательного, чем просто случайное стечение обстоятельств? Не работает ли тут какой-то объективный закон, который мы пока не знаем и не замечали просто потому, что не искали?
По нашему мнению, дело обстоит именно так. И всем нам рано или поздно, хотим мы этого или не хотим, придётся признать, что смена профессии просто обязана постепенно стать и восприниматься нормой -такой же, как смена износившихся ботинок.
Причиной тому - не желания или нежелания "непослушных выпускников", не нерадивость нерасторопных ректоров, а современные темпы объективного развития технологий. Они как раз подошли к той черте, когда за 10 - 12 лет (а в некоторых областях, например, в компьютерной, и ещё быстрее) технологии практически любой сферы человеческой деятельности существенно обновляются, радикально меняются настолько, что освоить новую технологию в своей "старой" профессии по затратам времени и сил - всё равно что приобрести новую профессию. Тогда какая разница? Сохраняешь ты формально ту же специальность или получаешь новую, но в любом случае ты должен учиться заново и фактически ты меняешь свою деятельность. И это главное.
С этой точки зрения профессиональная депривация 90-х годов послужила лишь спусковым крючком, инициатором перехода к новому психологическому отношению к профессии. И с этой точки зрения смена профессии сразу же после окончания вуза не более чем частная форма общего явления, обусловленная не капризами людей и тем более не их "непослушанием", а наличием у тех или иных профессий своих внутренних проблем, их социально-общественным положением.
Если мы позволим себе согласиться с тем, что целью образования не является получение профессии, то придётся ответить на концептуальный вопрос: а зачем же нам вообще образование? Конечно, для многих он будет звучать кощунственно, ведь мы так свыклись, сроднились с мыслью, что образование - это величайшее благо, что оно неотделимо от нашей жизни. Потому сама постановка этого вопроса даётся с некоторым усилием, а связный ответ на него далеко не тривиален.
Но давайте всё-таки сделаем усилие и спросим себя, зачем человеку география, если он не станет географом? Математика, если он в жизни своей не будет ничего вычислять, а ежели и понадобится что-то сложить - воспользуется калькулятором? Ощущаемая интуитивно абсурдность всех этих вопросов означает, что мы в образовании видим не только и даже не столько предметное знание, сколько нечто, находящееся за рамками этого знания, выше него. Но что же то "неуловимое", которое важнее, чем знание названия столицы Буркина-Фасо, причин Пунических войн или формулы для корней квадратного уравнения? Что же это?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо отвлечься от конкретного содержания конкретной профессии и найти во всех профессиях нечто общее, что необходимо всем и всегда. Уловить некую высшую сущность, которая обеспечивает человеку в жизни удовлетворённость, уверенность, успех, может быть, даже счастье.
Итак, что и зачем нужно человеку от образования?
Ответ первый - профессиональные знания. Но это сегодня уже очень небезусловно: те профессиональные знания, которые
Розов Н.Х.
мы раньше получали на лекциях в институте, теперь можно просто скачать из Интернета. Более того, значительную их часть даже нет необходимости заучивать и помнить - ведь всё "под рукой", всегда доступно на компьютере.
Ответ второй - профессиональные умения. Но материальная база учебных заведений обновляется совсем не быстро, а для освоения профессиональных умений нужна тренировка, необходимо работать "руками" ? и притом на современном оборудовании. Да и преподаватель в условиях непрерывно и интенсивно обновляющихся технологий оказывается в позиции постоянно "догоняющего поезд".
Значит, дело не в конкретных знаниях и не в определенной профессии - образование готовит к чему-то более широкому, чем профессия. К чему? Факт профессиональной депривации, о котором мы говорили выше, и необходимость в связи с этим формулировать цель образования в терминах надпрофессиональных требуют от нас искать понятие более широкое, чем профессия.
Это понятие есть деятельность. Именно деятельность как понятие оказывается центральным для педагогики. Кстати, если вернуться к рассмотрению профессиональной деятельности, то станет понятно, что для человека в ней важна в первую очередь не профессия, а именно деятельность. И если подумать, то будет ясно, что в разных жизненных переделках люди стремятся сохранить прежде всего не столько свою профессию, сколько свою деятельность.
Опора на понятие деятельности позволяет решить главную затронутую нами проблему. Целью образования является подготовка человека к будущей деятельности в обществе, а содержанием образования - освоение общих методов и форм человеческой деятельности. Предметное же содержание образования выступает лишь как средство, материал, на котором проходит обучение.
Итак, мы можем сформулировать деятель- ностный принцип педагогики: основная функция образования - подготовка ребёнка к участию в деятельности человеческого общества. И поэтому цель образования -приобретение навыков деятельности. Причем навыков обязательно в обобщенной форме: поскольку, как мы говорили выше, смена вида деятельности становится нормой, навыки должны иметь универсальный характер, а обобщение является одним из главных способов универсализации.
Важнейшим следствием этого принципа оказывается необходимость смотреть на учебные предметы школьной программы не как на содержание материала для изучения, а именно как на предметы, то есть как на средства, орудия обучения, воспитания и развития. Предмет - то, на чём человек учится. А вот чему учится - это уже другой вопрос.
Выделение в качестве цели образования подготовки к деятельности, а значит, в качестве цели обучения - освоения общих форм и способов деятельности требует от учителя уметь увидеть эти общие формы и способы деятельности в том учебном материале, на котором он проводит обучение. Деятельностный принцип обязывает нас при формировании программы образования, разработке методики обучения, организации учебной деятельности акцентировать внимание в первую очередь не на предметном, а на надпредметном содержании - на тех обобщенных деятельностных функциях, которые должно развивать.
Такой подход не является инновацией. Еще в "Комментариях" Прокла к "Началам" Евклида мы находим прямые указания на то, зачем Автор (так Прокл называет автора "Начал") приводит ту или иную теорему или доказательство. Прокл явно демонстрирует, что сочинение Евклида - не изложение научной геометрической системы, а, выражаясь современным языком, методическое пособие, позволяющее на наиболее ярких и выразительных примерах освоить основные конструктивные элементы тео- рии и те методы, которые в ней используются. Может, именно поэтому математика вообще и геометрия в частности была и остается важнейшим элементом общего образования - в ней "зашиты" не столько предметные знания, сколько общие формы и способы мышления.
Как только мы говорим, что алгебру мы изучаем не для того, чтобы запомнить формулу для корней квадратного трехчлена, а для того, чтобы научиться пользоваться символьными объектами, как только мы говорим, что геометрия изучается не для того, чтобы запомнить доказательство теоремы Пифагора, а для того, чтобы развивать геометрическое воображение, как только мы говорим, что изучаем русский язык не для того, чтобы уметь применять грамматические правила, а для того, чтобы научиться выражать свои мысли так, чтобы они понимались именно так, как мы хотим, как только мы говорим, что изучаем физику не для того, чтобы помнить закон Ома, а для того, чтобы понимать сущность законов природы и уметь видеть эту сущность за теми явлениями, которые нас окружают, -немедленно мы переходим от предметного содержания к содержанию надпредметному, к содержанию деятельностному, к тому, ради чего мы и учим детей.
Наши "госстандарты" предопределяют темы содержания каждого предмета, и есть контрольные задания, с помощью которых предписано оценить качество образования, проверяя усвоение школьниками этих тем и измеряя "остаточные знания". Беда, однако, в том, что стандарты, более или менее детально называя разделы каждого отдельного школьного предмета, перечисляя различные требующиеся от обучающихся, как теперь модно говорить, компетенции, не обсуждают те конкретные навыки деятельности и реальные умения, которые должны формироваться при этом у детей.
А ведь каждая школьная дисциплина -всего лишь тематический набор содержательных "кубиков", то есть то, что даётся учащемуся в качестве подсобного материала для выработки у него навыков деятельности. Например, анализ имеющихся комплектов учебников по математике для начальной школы (их создано уже около полутора десятков!) показывает, что никакие два из них не учат одному и тому же. Конечно, про таблицу умножения говорится в каждом из них, но в одном развивается алгоритмическое мышление, в другом - навыки преобразовать текстовую задачу в уравнение, в третьем осваивается "понятие" числа и умение "подводить под понятие", в четвертом учат выделять признаки, угадывать, "кто здесь лишний", и прочей "логике".
Так что содержание образования, если на него посмотреть не с предметной, а с общей точки зрения, оказывается неопределённым, расплывчатым, аморфным. При неустанном декларировании, что основной целью образования является формирование какой-то там особенной личности, реальные результаты получаются более чем скромными.
Конечно, возникает вопрос: как увидеть в конкретном предметном содержании надпредметное? На самом деле способ этого выделения не слишком сложен, и требует, во-первых, чёткого понимания деятельности как социальной функции, и, во-вторых, умения раскладывать предметную деятельность на действия, выделяя те из них, которые связаны с той или иной произвольностью.
Но это уже тема совсем другой статьи.