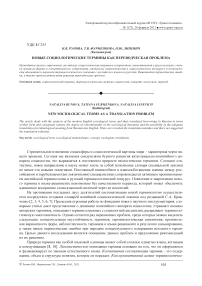Новые социологические термины как переводческая проблема
Автор: Рунова Наталия Васильевна, Фурменкова Татьяна Владимировна, Линевич Наталья Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1 (72), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проводится анализ современных английских социологических терминов и переводных заимствований в русском языке с точки зрения их формы и концептуального содержания, степени их закрепленности в социологическом тезаурусе и возможности адекватного перевода терминологического значения с английского языка на русский. Выявляются переводческие ошибки, а также предлагаются пути решения переводческих проблем.
Социологический термин, терминологическая система социологии, концепт, неологизм, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/148311053
IDR: 148311053 | УДК: 81’255
Текст научной статьи Новые социологические термины как переводческая проблема
Стремительное изменение социосферы и социологической картины мира – характерная черта нашего времени. Сегодня мы являемся свидетелями бурного развития категориально-понятийного аппарата социологии, что выражается в постоянном приросте неологических терминов. Согласно статистике, новое направление в науке может влечь за собой пополнение словаря специальной лексики не менее ста новыми понятиями. Постоянный взаимообмен и взаимообогащение идеями между российскими и зарубежными (англоязычными) специалистами сопровождается активным проникновением английской терминологии в русский терминологический тезаурус. Появление и закрепление нового термина в языке-реципиенте невозможно без качественного перевода, который может обеспечить адекватное восприятие слова языковой системой через ее носителей.
На протяжении последних двух десятилетий систематизация новой терминологии осуществляется посредством создания словарей новейшей социологической лексики под редакцией С.А. Кравченко [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Проделана огромная работа по фиксации нового научного инструментария: словарные статьи дают представление о динамике понятийного аппарата социологии, отражают нюансы авторских терминов, описывают термины смежных с социологией дисциплин, раскрывают терминологическую многозначность. Однако остается ряд нерешенных проблем, среди которых можно выделить следующие: концептуальная неустойчивость терминов, терминологическая синонимия, произвольная вариантность форм, неблагозвучность терминов в языке-реципиенте в результате калькирования, а также явные переводческие ошибки при передаче концептуального содержания исходного термина. Целью данного исследования является освещение данных проблем и предложение рекомендаций по их решению.
Природа термина как особой языковой единицы являет собой сложное единство языка, когниции и коммуникации [8, 10]. Лингвистическое понимание термина основано на том, что он оформляется и функционирует по законам естественного языка. Когнитивная составляющая термина – это содержание, объем и структура понятия, которое он передает. Коммуникативный аспект терминологичес- кой единицы выражается в том, что посредством фиксации и передачи профессиональной информации она участвует в создании текстов различной коммуникативной направленности. В этом смысле терминологии различных отраслей знания обладают различной спецификой исходя из того, насколько тесна связь той или иной науки со смежными дисциплинами, какова динамика ее развития, насколько она открыта к взаимодействию с другими научными школами.
Особенностью социологического дискурса является отражение методологического плюрализма: применение разнообразных научных подходов, использование различных научных тезаурусов приводит к разрушению единого когнитивного пространства, в рамках которого можно достичь взаимопонимания и адекватной интерпретации новой терминологии. Более того, для объяснения реалий в современной отечественной социологии исследователи зачастую используют язык западной науки, который является отражением иной когнитивной среды. Таким образом, культурный контекст является не только определяющей чертой дискурса социальных наук, но и источником когнитивного диссонанса внутри него.
Таким же противоречивым характером обладает и социологическая терминология. С одной стороны, сформировавшееся терминологическое ядро с его узуальными употреблениями свидетельствует о зрелости этой терминологии. С другой стороны, это молодая развивающаяся система, которой характерна терминологическая неопределенность. Многие современные английские термины, зафиксированные в словарях новой социологической лексики, могут быть отнесены к разряду терминоидов, которые характеризуются неустойчивым концептуальным содержанием. Отсюда неточность их значения, контекстуальная зависимость, нередко вариативность формы: quantified self – количественное измерение себя – по В. Моско (Mosco V.), «возможности для количественной оценки “себя” теперь практически повсеместны…» Термин иногда используется для простого учета растущей тенденции сосредоточиться на количественных показаниях телесных действий. Он также используется в критическом смысле уменьшения количества “я” до количества, превращающего личную идентичность в нечто большее, чем статическое чтение за счет качественных, субъективных и других не поддающихся количественной оценке измерений жизни [7, с. 42]. Данная словарная статья характеризуется размытостью описания даже при условии, что словарь носит энциклопедический характер.
Особой разновидностью терминоидов являются предтермины, которые называют новые, вполне сформировавшиеся понятия, однако зачастую не отвечают требованию краткости. Примером пред-термина в виде описательного оборота может служить следующий: “European Union as community of fate” – Европейский союз как сообщество, объединенное судьбой – метафора, используемая Э. Гидденсом для описания текущей ситуации в ЕС [Там же, с. 34–35].
Огромный пласт неологизмов представлен авторскими терминами, что вполне закономерно: новейшие концепции вводятся в научный обиход отдельными авторами либо небольшими группами единомышленников. Такие термины называются индивидуальными. На данном этапе развития социологической терминологии они, безусловно, попадают в разряд авторских окказионализмов, обладающих признаками терминоидов. Их дальнейшее закрепления в терминосистеме зависит от степени популярности выдвинутых теорий, что, как правило, выявляется в диахронии. В словарях С.А. Кравченко «введение новых терминов осуществляется в контексте раскрытия методологии и характера социологического воображения их авторов» [Там же, с. 4]. В списке этих авторов – выдающиеся социологи Дж. Александер, З. Бауман, У. Бек, Р. Брайдотти, В. Вандербург, Э. Гидденс, М. Кастельс, Г. Маркузе, В. Моско, Ч. Перроу, А.Р. Радклифф-Браун, Э. Фромм, Дж. Урри и мн. др. Наглядным примером содержательного расхождения термина у разных авторов могут служить термины national network safety (национальная сетевая безопасность) и network security (сетевая безопасность) [2, с. 33]. Первый термин был изначально введен на русском языке С.А. Кравченко, а затем переведен на английский язык, возникновение второго происходило в обратном порядке. В итоге в русском языке появились два практически идентичных термина (сетевая безопасность) с разницей в одно определение «национальная». Однако, их идентичность проявляется лишь в языковой оболочке. В концептуальном плане мы имеем два различных термина, второй из которых, к тому же, многозначен, т. е. расщепляется внутри на два значения: 1) национальная сетевая безопасность – national network safety – по С.А. Кравченко – «состояние защищенности национальных интересов страны, обусловленное функциональной самодостаточностью каждого звена безопасности…» [2, c. 33]; 2) сетевая безопасность – network security – 1) по Д. Ури – «модель безопасности, основанная на социальных сетях, позволяющих идентифицировать тех, кто рассматривается как источник угрозы» [12, c. 491]; 2) по А. Крау-форду – «относительно автономная от национальных государств форма безопасности, которая обретает глобальный характер» [9, c. 270]. Таким образом, концепт «сеть» в прилагательном «сетевой» получает совершенно различную трактовку: в первом термине под ней понимается система национальной безопасности со всеми ее звеньями (военно-политической, информационной, социальной), а во втором – сеть социальная, которая, напротив, основывается не на узконациональных, а глобальных интересах. Сосуществование такого рода схожих по форме, но различных по содержанию лексем свидетельствует о нарушении некоторых требований к термину: в плане значения – непротиворечивости его семантики (здесь лексическое и терминологическое значения вступили в определенный конфликт), в плане формы – мотивированности, т. е. семантической прозрачности, позволяющей составить представление о передаваемом понятии. Устранению подобных противоречий может способствовать гармонизация понятий и гармонизация термина в рамках процесса стандартизации, что поможет уменьшить или устранить различия между понятиями, а также унифицировать форму их выражения.
Еще одним немаловажным признаком терминологии социологии является тесная связь с общеупотребительной лексикой, совпадение по форме со словами обиходного языка. При всей ясности значения такие лексические единицы имеют тенденцию «приращивать» новые авторские «точечные» значения, развивая полисемию: fact – факт – по В. Вандербургу – «абсолютное, в противоположность относительному знанию культурного сообщества» [7, с. 123].
Перевод терминов может рассматриваться как компромиссная деятельность, находящаяся на стыке переводческой и терминографической работы, которая включает анализ понятийного содержания термина, его дефиниции, степени эквивалентности понятийных систем различных языков [8, c. 115]. Однако, огромная роль при этом отводится «технической» стороне воспроизведения термина на другом языке – способам перевода. То, в каком виде предстанет новое лексическое образование в принимающем языке, во многом определяет его дальнейшее существование в терминологической системе.
Анализ словарей новой социологической лексики выявил широкое разнообразие способов передачи английских терминов в русском языке. В терминах переводоведения их можно разделить на буквальный и функциональный перевод. Среди способов буквального перевода весомое место занимают транскрипция и транслитерация: downshifting – дауншифтинг, domicide – домицид [2, с. 92; 7, с. 32]. При этом отмечается тенденция к вариативности фонетических форм термина, что говорит о неустойчивом поведении заимствованной терминологии на русской почве. Так, термин tribalism имеет два фоноварианта – трибализм и трайбализм [7, с. 121]. Безусловно, это объясняется тем, что источником большинства новых терминологических единиц являются статьи и доклады социологических форумов и новейшие зарубежные труды по социологии, которые не успели пройти проверку временем. (Наиболее ярким примером подобной тенденции могут служить пять (!) русских вариантов английского термина survivalism – cурвивализм, сервайвализм, сурвайвализм, выживализм, выживальничество. Такие варианты называются комплексными, т. к. включают фонетические, грамматические и лексические разночтения (последние именуются разноязычными дублетами)). Подобные расхождения в плане выражения новых терминов, а также тенденция включения в словарь избыточных вариантов, отражающих окказиональное употребление иноязычных терминов, может вызвать значительные трудности в работе переводчика, пользующегося подобными словарями. Выбору окончательного варианта должна предшествовать большая аналитическая работа.
Еще одним распространенным способом образования переводных русских социологических терминов является полное и частичное калькирование: kentavr-problem – кентавр-проблема [2, с. 147].
Не совсем естественным для языка-реципиента кажется применение калькирования по типу инкорпорации – образование сложных составных лексем с дефисным написанием: self-as-player – само-идентификация-как-игрока; self-as-performer – самоидентификация-как-исполнителя; self-as-character – самоидентификация-как-характер [4, с. 147]. Такие конструкции чаще используются современными русскоязычными авторами в художественной литературе в качестве стилистического приема, однако воспринимаются русскоязычным сообществом как инородный элемент. Естественнее было бы оставить их написание без дефиса.
Функциональный перевод представлен следующими способами: а) полные эквиваленты: path dependence – зависимость от колеи [2, с. 116]; б) частичные эквиваленты: healthism – здоровая жизнь [Там же, с. 114]; в) лексическое добавление: throwaway society – общество одноразовых/ выбрасываемых предметов [Там же, с. 224]; г) функциональный аналог: folk theories – спонтанная социология [Там же, с. 311]; д) модуляция: culture accumulation – культурное обогащение [6, с. 248]. Встречаются и термины-гибриды, образованные в результате смешанных типов перевода: simulmatics – модельматика – эквивалент и транслитерация [2, с. 197].
Иноязычные заимствования влекут за собой отклонения от грамматических норм русского языка. В английском научном языке социологии, особенно в авторской терминологии, наблюдается тенденция к употреблению абстрактных существительных во множественном числе, что калькируется в русском языке: silences – молчания, mobilities – мобильности, risk-solidarities – риск-солидарности [2, с. 195, 201, 282]. Передача некоторых английских абстрактных существительных нарушает и одно из прагматических требований к термину – его благозвучность. Такие русские термины в результате могут насчитывать до семи слогов и содержать несколько труднопроизносимых согласных подряд: governmentality – гавернментальность ( ср. также производные гавернменталь-ное общество, гавернментальная рациональность), informational city – информациональный город [Там же, с. 64, 220, 269, 81]. Благозвучность термина заключается еще и в том, что он не должен вызывать нежелательные ассоциации, как, например, mondialisation – мондиализация [Там же, с. 201] или heroinism – героинизм/героиномания (!) [6, с. 75]. Последний термин означает «преклонение перед героями» и «культ героев прошлого», однако вызывает стойкую ассоциацию с наркотиками. В подобных диалексемах наблюдается межъязыковая асимметрия плана содержания, заключающаяся в несовпадении объема значений и стилистических, эмоционально-оценочных коннотаций, а также в различной денотативной соотнесенности. Данное языковое явление известно в теории перевода также под именем «ложных друзей переводчика».
К анализируемой группе терминов можно отнести и вошедший в узус термин инвайронменталь-ный. О внедренности его в язык социологии говорит его систематичность и деривационная способность: environmentology – инвайронментология, environpolitics – инвайронментальная политика, paleoenvironment – палеинвайронмент [Там же, с. 136, 297, 273]. Однако, будучи закрепленным в языке, он по-прежнему проявляет вариативность формы: в словаре 2019 г. [7, с. 12] термин инвайро-ментальные беженцы (environmental refugees) употреблен без одной буквы “н” (эта же тенденция наблюдается в социологических интернет-статьях). Изначально при создании этих терминов в русском языке можно было использовать более лаконичный корень “эко”.
Проблема синонимии терминов является одной из самых важных в терминоведении и связана с избыточностью средств называния понятия. Анализ показал, что терминологическая синонимия развивается в двух основных направлениях: 1) одному английскому термину соответствуют несколько русских эквивалентов (sandwich generation – бутербродное поколение/сэндвичное поколение) и наоборот: 2) несколько английских синонимов передаются одним русским эквивалентом (negationism/ negativism/nihilism – нигилизм). В рамках нашего исследования мы затронем проблему синонимии только в русской терминологии. Так, большинство примеров представляют собой морфологические варианты источникового английского термина: participatory demography – партиципаторная демократия (полное калькирование иноязычного суффикса), партиципативная демократия (полукалька с русским суффиксом –ив) [6, с. 98]. В современном научном дискурсе активно употребляются еще несколько вариантов этого прилагательного с заменой русского глухого твердого “ц” со следующим за ним [ы] на более мягкий (палатализованный) согласный “с”– партисипативный и партисипа-торный. Таким образом, в диахронии наблюдается не сокращение морфовариантов термина, а их явное увеличение. При этом необходимо отметить, что в плане содержания они являются абсолютными синонимами. Такая пестрая картина говорит об отсутствии централизованной терминологической работы по упорядочиванию терминосистемы социологии.
Среди других вариантов терминов можно отметить достаточно естественные для русского языка, например, decentring – децентризм/ацентризм [2, с. 99], где наблюдается вариативность латинских префиксов, которые равнозначны и продуктивны в русском языке; а также разноязычные дублеты типа dissemination – рассеивание/диссеминация , параллельное употребление которых вполне допустимо.
Все вышесказанное приводит к мысли о том, что синонимия препятствует построению стройной системы понятий социологической отрасли, поэтому ее упразднение – это стремление к единству трактовки основных понятий. Даже при попытке нормализации только формирующейся терминологии, т. е. фиксации в системе терминоидов, необходимо избегать их вариативности, чтобы не нанести серьезный урон развитию данной области знаний.
Анализ словарей новой социологической лексики позволил проследить, как менялись форма и значение заимствований на протяжении десятилетия, т. е. их диахроническую вариантность. Диахронический анализ важен еще и потому, что при разработке терминологии необходима корректировка внедренной терминологии с учетом развития словоупотребления.
Диахроническая вариативность терминов социологии выражается в двух планах: плане содержания и плане выражения понятий. Изменение концептуального содержания термина происходит через развитие полисемии – в основном, расширение значения. Ярким примером может служить термин алкоголизм (alcoholism), к прежним значениям которого (1) хроническое заболевание, обусловленное злоупотреблением спиртным; 2) социальная аномия, выраженная в массовом злоупотреблении алкоголем; 3) личностные и поведенческие особенности индивида, злоупотребляющего алкоголем [6, с. 22] прибавилось узкое авторское значение деформация социального времени с эффектом ускользания прошлого, приостановки настоящего, переживания будущего как будущего свершенного [2, с. 16]. Сильно приросло авторскими значениями и транслитерированное в русском языке понятие underclass – андеркласс : ср. одно значение в словаре 2004 г. ( дискриминируемая этническая группа, компактно проживающая в гетто – [6, с. 29]) против шести авторских значений в словаре 2019 г. [7, с. 8 – 9]. Этот термин отличается неустойчивостью значения на современном этапе развития: в дефиниции авторы (как отечественные, так и зарубежные) указывают на различные причины формирования подобного социального класса (следование определенным ценностным ориентациям, дискриминация в отношении интеграции в общество, не выполнение функции в социальном целом, поведение, социальная пассивность и негативная самоидентификация). Подобная размытость границ между авторскими значениями говорит и необходимости как внутриязыковой, так и межъязыковой унификации подобных терминов.
Не менее существенные изменения претерпело и формальное выражение некоторых терминов в русском языке. Развитие формы проходило в двух основных направлениях: упрощение и усложнение. Более компактная форма достигалась различными способами: 1) переход от описательного перевода к калькированию: phatic communication – коммуникация ради общения [6, с. 169] – фатическая коммуникация; 2) переход от описательного перевода к полному эквиваленту: available population – население в наличии [Там же, с. 233] – наличное население; 3) перестройка синтаксической структуры высказывания: midlife crisis – кризис в середине жизни [Там же, с. 184] – кризис среднего возраста. Интересно также отметить довольно редкое для современного русского языка явление “доместикации” иностранных терминов в процессе развития, т. е. переход от заимствованной формы к более естественному русскому эквиваленту: light pollution – световая поллюция [Там же, с. 299] – свето- вое загрязнение. В данном случае это объясняется стойкой ассоциацией у носителей русского языка слова “поллюция” с физиологическим мужским явлением. Что касается усложнения формы, оно отмечено лишь в терминах, которые были изначально неблагозвучны и приобрели более естественное звучание: twenty-statements test – двадцатиответный тест [6, с. 444] – тест двадцати высказываний. Таким образом, данный материал наглядно показал основные тенденции в развитии формальносодержательной структуры социологических терминов, которые могут и должны быть учтены при систематизации терминологии.
Помимо формального выражения, основная проблема перевода термина кроется в адекватной передаче его концептуального содержания в языке-реципиенте. Анализ выявил ряд переводческих ошибок, которые наблюдаются в словарях новой социологической терминологии. Так, довольно спорным и необоснованным представляется перевод термина dataism как репрессия [7, с. 98]. Впервые этот термин был использован Дэвидом Бруксом в 2013 г. в газете The New York Times для описания мышления или философии, созданной новым значением больших данных. Концептуальное содержание терминов “репрессия” (подавление) и “dataism” явно не совпадают. В этой связи представляется правомерным транслитерированный перевод “датаизм” по аналогии с названиями религий, образованных с помощью суффикса -изм. Более того, можно считать его вполне устоявшимся в русском языке, на что указывают активное употребление (см, например, [1]) и деривационная способность: датаист – человек, проповедующий датаизм.
Другим примером неудачного, на наш взгляд, перевода является touring poverty – бедность в контексте туризма – который определяется как вид туризма, предлагающий посетителям осмотреть условия жизни бедных народов [7, с. 12]. Во-первых, “бедность” не может рассматриваться как вид туризма (нарушение в выборе гиперсемы дефиниции). Во-вторых, русский термин не передает полноту иноязычного понятия. В попытке сделать это обратимся к термину “slum tourism”, который известен достаточно давно. Впервые он был упомянут Оксфордским словарем английского языка в 1884 г., описывая стремление богатых жителей Лондона посещать бедные кварталы, такие, как Уайтчэпел, чтобы развлекать себя созерцанием жизни нищих сограждан и проникнуться духом «настоящего» города, его низов. В конце XIX в. такое же явление, описываемое этим же термином, было отмечено и в США, где граждане с исполнившейся американской мечтой стали интересоваться тем, как живут «другие». Позже явление было отмечено во многих других странах, захватывая уже международный туризм, когда путешественники выбирали в качестве своего основного отпускного развлечения знакомство с беднейшими кварталами стран третьего мира. В 1980-х годах темнокожие жители Южной Африки сами стали организовывать туры в бедные кварталы городов для своих белых сограждан и туристов, демонстрируя бедность и отвратительные условия проживания там. Подобные туры привлекли большое число иностранных туристов, которые могли познакомиться с таким явлением, как апартеид. Безусловно, сам трущобный туризм подвергался открытой критике, потому как «превращал бедность в развлечение», однако нельзя забывать того, что он как вид экономической деятельности обеспечивал бедные сообщества рабочими местами и некоторым доходом от продажи сувенирной продукции.
Термин “touring poverty” был активно исследован в работе Дж. Сарменто “Touring Poverty” [11], где автор анализирует это явление в контексте разных стран. Русскоязычный эквивалент термина звучит как «бедность в контексте туризма», что само по себе вряд ли отражает многоаспектность этого явления. В пояснении к термину говорится, что жители этих районов не только знакомят туристов с повседневной жизнью, но и «производят материальные сувениры и демонстрационные практики бедности», при этом основное содержание термина остается нераскрытым. На наш взгляд, вариант «трущобный туризм» был бы лучшим выбором, так как в нем понятийный фокус смещается именно на уровень жизни в посещаемых туристами местах, а не на бедности как элементе «контекста» туризма.
Не менее интересен и термин hypermodern society, который определяется в словаре социологических терминов 2011 года как гипермодное общество [2, с. 221]. Корпусный анализ обоих терминов в английском и русском языках показывает, что их содержание достаточно сильно разнится. В английском языке hypermodern – это, скорее, нечто ультрасовременное (гиперсовременное), отражающее высокий уровень развития современного общества (ср. в этом же словаре [4, с. 226] термин postmodern society и его перевод постсовременное общество). Именно технологии и различные средства массовой коммуникации придают развитию общества гипер-скорость и гипер-характер, делая социальные контакты все более интенсивными. Основная функция такого общества – гиперпотребление, которое захватывает все новые и новые сферы общественной жизни, подталкивая каждого члена общества потреблять ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы повысить свой социальный статус. Гедонизм и получение удовольствия становятся главными ориентирами, освобождая от стереотипов, но, вместе с тем, лишая уверенности в некой системе ценностей. Термин, предлагаемый словарем 2019 г. в качестве эквивалента, звучит как «гипермодное» общество, что актуализирует совершенно иной аспект значения – склонность общества к приобретению модных вещей и демонстрации своего знания уровня развития моды (например, современные понятия “гипермодный стилист”, “гипермодный район” не имеют никакого отношения к темпам развития общества или его инновационному характеру). Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин гипермодный, предложенный словарем новых социологических терминов в качестве эквивалента термину hypermodern, не совпадает с ним по актуализируемому значению и не может считаться приемлемым.
Современный этап развития социологической терминологии характеризуется тем, что она находится в процессе формирования как с концептуально-языковой точки зрения, так и точки зрения системности. Процесс фиксации новых понятий в языке и передача их в другом языке вызывает ряд проблем. Проведенный анализ показал, что современные словари новой социологической терминологии фиксируют термины, характеризующиеся концептуально-языковой неустойчивостью (вариативностью). Эта неустойчивость отражается и на переводных вариантах терминов в русском языке, что выражается в вариативности форм и искажении концептуального содержания исходного термина.
Для упорядочивания системы понятий социологии и во избежание ошибок при создании новых терминов на русском языке необходима совместная работа социологов, терминологов и профессиональных переводчиков. На начальном этапе она может быть направлена на нормализацию формирующейся терминологии, чтобы упорядочить систему новых, только возникших понятий. В дальнейшем эта деятельность должна стать централизованной и систематической, включать в себя такие аспекты терминологического планирования, как разработка, усовершенствование (гармонизация терминов и понятий) и внедрение новой терминологии в предметную область отечественной социологии.
Список литературы Новые социологические термины как переводческая проблема
- Каленкова Ю. Кто исповедует датаизм, и как роботы стали священниками. [Электронный ресурс]. URL: https://test.ru/2019/11/20/whoprofessesdatismandhowrobotsbecamepriests (дата обращения: 20.01.2021).
- Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, порятия, персоналии (с английскими эквивалентами). М.: МГИМОУниверситет, 2011.
- Кравченко С.А. Социологический толковый англорусский словарь. М.: МГИМО(У) МИД России, 2012.
- Кравченко С.А. Социологический толковый русскоанглийский словарь. М.: МГИМО(У) МИД России, 2013.
- Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англорусский словарь. М.: РУССО, 2002.
- Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русскоанглийский словарь. М.: Астрель, АСТ, Транзиткнига, 2004.
- Словарь новейшей социологической лексики с английскими эквивалентами / С.А. Кравченко, М.А. Бабичев, Е.А. Бузыкина [и др.]. М.: МГИМОУниверситет, 2019.
- Cabré M.T. Terminology: theory, methods, and applications. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999.
- Crawford A. The Growth of Crime Prevention in France, as Contrasted with the English Experience: Some Thoughts on the Politics of Insecurity // Crime Prevention and Community Safety. London: Sage, 2002. P. 260–282.
- Faber P. Cognitive shift in terminology and specialized translation // Africa Vidal, Javier Franco (eds). Monographs in Translation and Interpreting. A (Self) Critical Perspective of Translation Theories. 2009. P. 107–143.
- Sarmento J. Touring poverty // Journal of Tourism and Cultural Change. 2013. No. 11(4). P. 321–323.
- Urry J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2008.