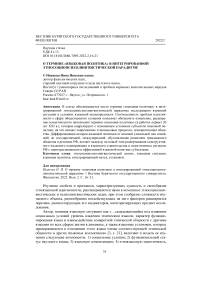О термине "языковая политика" в интегрированной этносоциопсихолингвистической парадигме
Автор: Иванова Нина Иннокентьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается место термина «языковая политика» в интегрированной этносоциопсихолингвистической парадигме исследования языковой ситуации в условиях языковой неоднородности. Соотнесенность проблем идентичности к сфере общественного сознания позволяет обозначить изменение, расширение семантического наполнения термина «языковая политика» (в работах первых 20 лет XXI в.), которые коррелируют с изменением установок субъектов языковой политики, на что влияют современные этноязыковые процессы, демократизация общества. Дифференциация акторов языковой политики от низовой (локальной или семейной) до государственной, международной, обусловленная развитием гражданского общества в регионах РФ, вселяет надежду на новый этап развертывания конструктивного языкового планирования и языкового строительства в полиэтничных регионах РФ с заинтересованными в эффективной языковой политике субъектами.
Этносоциопсихолингвистический аспект, языковая ситуация, языковая политика, интегрированный метод, установки
Короткий адрес: https://sciup.org/148324135
IDR: 148324135 | УДК: 81-13
Текст научной статьи О термине "языковая политика" в интегрированной этносоциопсихолингвистической парадигме
Иванова Н. И. О термине «языковая политика» в интегрированной этносоциопсихо-лингвистической парадигме // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 2. С. 16‒21.
Изучение свойств и признаков, характеризующих сущность и своеобразие этноязыковой идентичности, рассматриваются нами в комплексе этносоциолинг-вистических и психолингвистических задач, при этом сообразно сложности изучаемого объекта, разнообразию воздействующих на него факторов расширяется перечень диагностирующих его индикаторов, категоризирующих предмет исследования.
Автор, понимая языковую ситуацию как «…складывающийся под влиянием социальных условий уровень владения этническим языком, характер функционирования языка и взаимодействие конкретной этнической общности с другими языками во всех сферах жизни в динамике, а также языковые установки, которых придерживаются в отношении этого языка члены соответствующей этнической общности и других языковых коллективов» [3, с. 23], включает в модель ее изучения следующие компоненты: 1) социальные условия; 2) функциональный статус якутского языка; 3) языковую компетенцию; 4) этноязыковую идентичность, детерминируемую функциональным статусом и уровнем владения этническим языком, а также комплекс следующих категорий: речевое поведение (выбор родного языка; выбор языка обучения, выбор языка в массмедиа, мотивация изучения языков невладеющими), современный риторический (коммуникативный идеал носителей языка) характер национально-языковых отношений, тип языковой политики, защита языка правовыми актами.
Соотнесенность проблем идентичности к сфере общественного сознания позволяет использовать интегрированный метод, что также обусловлено возможностью оперировать субъективными признаками объекта — коммуникативными категориями, выявляемыми в установках, ориентациях, мнениях, мотивах дискурса. Посредством набора когнитивных методов можно выявить определенные базовые структуры коммуникативного сознания и в дальнейшем интерпретировать их в рамках социолингвистической модели этноязыковой идентичности. В данной статье обосновывается в качестве языковой установки социолингвистический термин «языковая политика».
Соглашаясь с Э. В. Хилхановой в том, что «языковые установки становятся неизбежными в тех социолингвистических исследованиях, которые ставят задачу объяснения причин наблюдаемых социолингвистических явлений с позиций антропоцентризма» [7, с. 7], принимаем ее тезис, что «факты, свидетельствующие о том или ином речевом поведении индивида или группы, могут обнаруживать наличие у него определенных ЯУ» (ЯУ — языковые установки), то есть речевое поведение рассматриваем широко, включая в них ориентации, собственно установки, мотивы, мнения, предпочтения, потребности. Также для нас в интерпретации установок в национально-языковых отношениях важно уточнение Э. В. Хилхановой о том, что установки по отношению к языку являются, по сути, установками по отношению к говорящим на данном языке [7, с. 38].
В качестве определения языковых установок, которые являются подвидом социальных установок, принимаем следующую их формулировку в первом значении: «Установка социальная (аттитюд) — 1. Общая ориентация индивида на определенный социальный объект, предшествующая действию и выражающая предрасположенность действовать определенным образом в отношении данного объекта» 1 . Авторы словаря в дефиницию включают три аспекта социальных установок: когнитивный уровень характеризуется осознанием объекта; аффективный — эмоциональной оценкой объекта; поведенческий аспект указывает на последовательное поведение по отношению к объекту и их функции приспособления, познания, саморегуляции, защиты. Приводится и второе значение термина, в котором социальные установки приравниваются к субъективным ориентациям индивида2.
Часть исследователей, действительно, отождествляет социальные установки и ориентации. Н. П. Шумарова со ссылкой на труды В. Г. Гака, А. Д. Швейцера и на статью социологического словаря дефинирует ценностные ориентации следующим образом: «…термин социологии, социальной психологии, социолингвисти- ки. В социологии обозначает мотивы, потребности, интересы и другие детерминанты деятельности личности (социологический словарь), в социолингвистике понимается как руководство определенными критериями выбора тех или иных коммуникативных средств, ориентация на определенные социокультурные ценности и нормы, обусловливающие использование как языков в целом, так и отдельных языковых средств» [4, с. 129].
Автор вводит уточнение, заключающееся в том, что социолингвистика изучает ценностные ориентации в сфере употребления языка (языков) в конкретных ситуациях дву- и многоязычия, в том числе и выбор вариантов одного из них. Также указывается выражение ценностных ориентаций в субъективных суждениях личности, коллектива или населения о том или ином языке и его элементах, в квалификации языка по признаку престижность/непрестижность, норма-тивность/ненормативность и т. д., что формирует положительное или предвзятое отношение к языку (языкам) и некоторым языковым средствам в многоязычном социуме. Ценностные ориентации, как отмечает автор и с чем мы совершенно согласны, «…влияют не только на восприятие языка, но и на речевое поведение личности, а тем самым и на языковую ситуацию в целом» [4].
Принадлежность социолингвистического термина «языковая политика» к семантическому полю «политика» и политическое лексикографирование термина «установка» как «предподготовность субъекта реагировать тем или иным способом на то или иное политическое событие или явление»1 или «внутреннее качество субъекта политики, базирующееся на его предшествующем опыте и политической культуре» [3, с. 88–89] позволяет анализировать термин «языковая политика» в качестве языковой установки, осознанно транслируемой государством, обществом на сферу применения языков.
Приведем лингвистические аргументы, прокомментировав некоторые определения данного понятия. У Л. П. Крысина и В. И. Беликова языковая политика отождествляется с «практическими мерами государства, касающимися статуса государственного языка, его функций, защиты монопольного использования государственного языка в наиболее важных социальных сферах, регламентации применения “местных” языков» [2, с. 263].
Л.-Ж. Руссо понимает под языковой политикой «любые решения , принимаемые государством или любым другим имеющим на это право социальным органом, направленные на использование одного или нескольких языков на данной территории, реальной или виртуальной, и регламентирование его или их употребления» [5, с. 97].
В ССТ толкование термина, сформулированное А. Д. Швейцером, определяется следующим образом: «Совокупность мер, принимаемых государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохранения существующего функционального распределения языков и языковых подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью общей политики и соответствующих их целям»1.
Отмечая целенаправленный и организованный характер языковой политики, объектом которой выступает не собственно язык, а его функциональная сторона, В. А. Аврорин подчеркивает, что «... языковая политика определенного общественного класса, партии, государства представляет собой систему мер сознательного регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, а через ее посредство в известной мере также и на его структуру» [1, с. 10].
Базисное значение в приведенных дефинициях заключается в словах: система мер сознательного регулирующего воздействия. ; изменение и сохранение меры защиты, регламентации; решения , направленные на использование и регламентирование их употребления , то есть языковая политика должна быть нацелена не только на поддержание стабильности реальной языковой ситуации, сохранение совокупности языков, но и на ее коррекцию с учетом изменяющихся условий и потребностей граждан. Языковая политика также может преследовать цели возрождения, сохранения, межнациональной коммуникации, распространения, ассимиляции, интеграции, вестернизации и т. д.
Таким образом, подробное толкование термина «установка политическая внутренняя» обнаружила ее соотнесенность с языковыми установками: ее структура состоит из 3 уровней (когнитивного, эмоционального и поведенческого). Также мы выяснили, что языковая политика как установка в области применения языков может быть осознанной или неосознанной.
И в данном контексте мы согласны с С. В. Соколовским и Е. И. Филипповой в том, что «любая инициированная правительством или национальной элитой языковая реформа поляризует мнения граждан, которых невозможно рассматривать лишь как пассивных реципиентов этой реформы: она не будет иметь успеха без поддержки населения, таким образом, даже следование ее целям и принципам, не говоря уже о противодействии и протестах, должно рассматриваться тоже как политическое действие, направленное на реализацию конкретной стратегии языкового планирования» [6, с. 5].
Авторами определяются различные уровни языковой политики — от низовой (локальной или семейной) до международной или государственной. С. В. Соколовский и Е. И. Филиппова предлагают рассматривать многосубъектную языковую политику, т. е. с расширенным составом ее акторов. Кроме государственной власти, политических элит должны быть приложены усилия книжных издательств, СМИ, научных сообществ, школ и университетов, землячеств, интернет-сообществ, объединяющих школьников и их родителей, общественников и религиозных общин и т. д. [6, с. 13–14].
Таким образом, эволюция содержания термина «языковая политика» отражает процесс его переосмысления обществом, демократизацию самого общества и расширение понятийного поля, что корреспондирует с выявленными в этнической общности установками.
Список литературы О термине "языковая политика" в интегрированной этносоциопсихолингвистической парадигме
- Аврорин В. А. Ленинские принципы языковой политики // Вопросы языкознания. 1970. № 2. С. 6-16. Текст: непосредственный.
- Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика: учебник / Ин-т "Открытое о-во". Москва: Изд-во РГГУ, 2001. 436 с. Текст: непосредственный.
- Иванова Н. И. Языковая ситуация в Республике Саха (Якутия): якутский язык в условиях языковой неоднородности (этносоциопсихолингвистический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Казань, 2021. 52 с. Текст: непосредственный.
- Ольшанский Д. В. Основы политической психологии: учебное пособие для вузов Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 494 с. Текст: непосредственный.
- Педагогическое речеведение: словарь-справочник [Н. П. Шумарова. Ориентации ценностные] / под редакцией Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. Москва: Флинта, Наука, 1998. 312 с. Текст: непосредственный.
- Руссо Л.-Ж. Разработка и проведение в жизнь языковой политики // Языковая политика в современном мире. Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. С. 97-121. Текст: непосредственный.
- Соколовский С. В., Филиппова Е. И. Законы и идеологии: политика и управление языковыми ситуациями // Смерть языка - смерть народа? Языковые ситуации и языковые права в России и сопредельных государствах. 2020. С. 5-19. Текст: непосредственный.
- Языковое сознание и языковые установки жителей приграничных регионов востока России (на примере Республики Бурятия и Забайкальского края) / Э. В. Хилханова, Г. А. Дырхеева, Л. М. Любимова, Д. Б. Сундуева. Москва: Наука, 2016. 174 с. Текст: непосредственный.