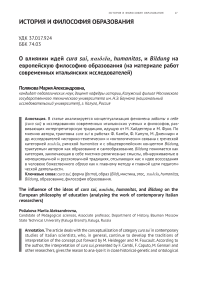О влиянии идей cura sui, ~i, и bildung на европейскую философию образования (на материале работ современных итальянских исследователей)
Автор: Полякова Мария Александровна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и философия образования
Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется концептуализация феномена заботы о себе (cura sui) в исследованиях современных итальянских ученых и философов, развивающих интерпретаторскую традицию, идущую от М. Хайдеггера и М. Фуко. По мнению автора, трактовка cura sui в работах Ф. Камби, Ф. Капуто, М. Дженнари и др. исследователей «историко-генетически» и «онтологически» связана с греческой категорией naiöeia, римской humanitas и с общеевропейским концептом Bildung, трактуемым автором как образование и самообразование. Bildung понимается как категория, заключающая в себе мистико-религиозные смыслы, обнаруживаемые в немецкоязычной и русскоязычной традициях, отсылающих нас к идее воссоздания в человеке божественного образа как к главному методу и главной цели педагогической деятельности.
Форма (forma), образ (bild), мистика, этос, образование, философия образования, паїбєїа
Короткий адрес: https://sciup.org/14219757
IDR: 14219757 | УДК: 37.017.924
Текст научной статьи О влиянии идей cura sui, ~i, и bildung на европейскую философию образования (на материале работ современных итальянских исследователей)
В современном западном обществе, парадоксально сочетающем в себе черты гедонизма и, в то же время, некоторого социального аскетизма, весьма актуальными становятся проблемы, на протяжении веков привлекающие к себе интерес философов, религиозных деятелей, ученых, и касающиеся само-совершенствования человека. Среди них особое место занимает категория cura sui или заботы о себе . Появившись в классической античности, пройдя сложный и неоднозначный путь переосмысления в период доминирования средневекового христианского самосознания, чтобы «возродиться» в блеске ренессансного антропоцентризма, преодолев перипетии эпохи Просвещения и немецкой классической философии, категория эта актуализировалась в научном дискурсе западного общества уже во второй половине прошлого столетия, когда вопросы о месте человека в современном, быстро меняющемся мире приобрели особое, несколько тревожное звучание. О связи возросшего интереса к cura sui именно с «эпохой благоденствия» и эрой потребительского бума говорит ряд сравнительно недавних научных мероприятий, посвященных проблеме, среди которых: Международная конференция « Cura sui e autotrascendimento. La formazione del se fra antico e post-moderno1 » (Университет Вероны, ноябрь 2012), Международная конференция памяти Г.В. Иванченко «Мы все в заботе постоянной» (Москва, НИУ ВШЭ, сентябрь 2015) и др., а также многочисленные публикации по теме.
Категория cura sui находится в центре внимания антропологических, экзистенциальных и герменевтических философских исследований, что объясняется и в целом гуманитарным характером этих направлений, и спецификой их методов и подходов. Среди философов, развивавших тему заботы , следует назвать имена М. Хайдеггера, П. Рикёра, М. Шелера, А. Камю и др. Честь активизации проблематики в период перехода цивилизации на постиндустриальный уровень развития принадлежит М. Фуко, на рубеже веков и тысячелетий появились яркие исследования cura sui П. Адо и Ф. Камби. Широкое освещение забота о себе получила и в отечественной науке (работы Д.А. Бабушкиной, В.Л. Лехциера, С.А. Смирнова, С.С. Хорунжего, О.В. Михайловой, Г.В. Иванченко, В.К. Пичугиной и др.).
Концептуализация cura sui М. Хайдеггером, М. Шелером и М. Фуко вызвала своего рода дискуссию среди итальянских ученых на рубеже XX и XXI веков. Особая заслуга здесь принадлежит профессору философии Флорентийского университета Ф. Камби, возродившему тему, по мнению В. Боффо, на теоретическом и практико-эмпирическом уровнях2. В настоящее время проблема заботы находится в центре внимания таких ученых, как М. Борелли, Г. Кузинато, Л. Мортари, Ф. Капуто, В. Боффо.
Cura sui или epimeleia heautou - одна из разновидностей, ипостасей заботы ( cura или έπιμέλεια ) вообще. В свою очередь, έπιμέλεια трактовалась в Древней Греции весьма широко: как ‘забота’, ‘попечение’, ‘радение’, ‘общественное поручение’, ‘общественный пост’, ‘дело’, ‘занятие’, ‘поприще’ [Пичугина 2014а: 176], что объясняет многие из современных ее интерпретаций. Латинская cura содержит аналогичные значения, однако примечательными выглядят еще следующие: ‘лечение’, ‘уход’ и ‘любовь’ [Пичугина 2014b: 22]. Итальянский этимологический словарь среди одной из версий происхождения слова (в современном итальянском языке полного аналога латинской cura ) упоминает связь cura с лат. cor (сердце, дух), так как человек «…стимулирует сердце и расходует (истощает) его» [Dizionario etimologico online. Электронный ресурс]. Однако авторы статьи о cura считают подобную версию сомнительной и предпочитают видеть в ней корни лат. ku-kau-kav (наблюдать, смотреть, присматривать, остерегаться) [Там же]3.
В современном итальянском языке сохраняется множество производных от cura слов, например, curare (заботиться, лечить), curabile (излечимый), curatore (куратор, опекун), procurare (следить, доставлять, снабжать), sicuro (уверенный), sicurezza (безопасность), trascurare (пренебрегать), curioso (смешной, любопытный) и многие другие, часто понятные нам без словаря. Последнее слово ( curioso ) примечательно с той точки зрения, что оно нашло широкое применение и в русском языке практически в своем первоначальном смысле (курьезный, смешной), но здесь не следует забывать, что «любопытный» может еще и означать ‘любознательный’, ‘стремящейся (заботящийся о том, чтобы) что-либо узнать’. В итальянской дискурсивной традиции употребление curioso в таком значении весьма распространено, что, воз-можно, отражает ту глубинную связь, которая существует между cura, cura sui и (само)образованием человека.
Данная статья построена на материале анализа работ итальянских авторов, сохранивших сильное влияние пространного толкования заботы, идущего из латыни. Например, Ф. Капуто в своем исследовании педагогической заботы упоминает тот факт, что cura в современном итальянском языке часто интерпретируется в медицинском смысле (уход, лечение), что, в свою очередь, способствовало появлению целого ряда работ о заботе в области медицины, психиатрии, в меньшей степени – психологии [Caputo 2014: 117]. Г. Кузинато в этой связи указывает на особенности англоязычной терминологии, где cure означает именно ‘лечение’, ‘уход’ (за больным человеком или нуждающимся в поддержке), а care имеет значение образовательного процесса и ‘расцвет (становление) личности’ [Cusinato 2013: 69].
В прошлом веке термин забота появляется, прежде всего, в работах М. Хайдеггера, соответственно в своем немецком эквиваленте - Sorge , с языковой точки зрения - фактически однозначном, но содержательно трактуемом в немецкой философии несколько шире. Первым предложил подобное толкование И. В. Гёте, который вывел заботу в лице одной из седовласых старух во второй части «Фауста» – той, которая ослепляет главного героя. Ф. Капуто видит в данном акте глубокий психологический и нравственный смысл: «…Забота, у которой было задание ослепить Фауста, на самом деле зажигает его. Свет и тень – это траектория психологической параболы, обращенная к внутреннему оживлению, к поиску равновесия между физическим и духовным миром...» [Caputo 2014:117]. Забота реализуется в форме самосознания. Метафора немецкого поэта сопоставима с трактовкой катарсиса в работах Г Кузинато, который, разъясняя феноменологию Макса Шелера, понимает под ним (катарсисом) «смерть» собственного эго, «возрождение» личности и, наконец, практику изменения (трансформации) личности – Umkehrung [Cusinato 2013: 59].
О заботе как катарсисе или акте очищения и возрождения в новом качестве повествует другой художественный пример, использованный М. Хайдеггером, и пересказанный фактически каждым итальянским интерпретатором cura [Caputo 2014, Cusinato 2013]. Речь идет об античной басне о сотворении человека, приписываемой древнеримскому писателю Гаю Юлию Гигину (64 до н.э. – 17 н.э.), согласно которой, Заботе ( Cura ) принадлежит честь создания человека из кусочка глины, которую она нашла однажды у реки. Вовремя подоспевший Юпитер ( Jovis ), по просьбе Заботы, вдыхает в глиняного истукана жизнь, но отказывается дать ему имя создателя – Заботы, а претендует на то, чтобы обретший форму кусок глины носил его имя. К спору подключается Земля ( Tellus ) с аналогичными претензиями. Разрешает спор Сатурн ( Satum ), который обещает Юпитеру дух человека, Земле - тело человека после его смерти, а Заботе, затеявшей все это, – власть над человеком при его жизни. Имя же пошло от Земли: humus › homo [Хайдеггер. Электронный ресурс]. М. Хайдеггер видит в этой легенде не только демиурговы функции cura , но также ее доонтологические корни, лежащие раньше понимания человека как единства физического и духовного начал. Исток всего сущего и человека, прежде всего, – в заботе [Caputo 2014: 116].
Эта басня, без сомнения, вскрывает еще одну важную особенность или функцию cura - ее формирующий (или образовательный) характер, ведь именно Забота придала форму будущему человеку. И здесь сразу напрашиваются смысловые параллели cura с образованием или, его немецким эквивалентом – Bildung . Предложение использовать именно этот термин обусловлено тем, что, во-первых, в русском языке произошло его калькирование [Этимологический словарь М. Фасмера. Электронный ресурс] (от Bild (образ) - ‘образование - ‘вос’создание образа, создание по образцу), во-вторых слово Bildung активно используется в западных педагогических исследованиях, как отдельная категория (наряду с παιδεĩα и humanitas ), с присущими именно ей историко-генетическими и лингво-онтологическими характеристиками4. В отечественной историко-педагогической науке подобная традиция не слишком прижилась, но, в целом, оправдана в рамках исследований, разворачивающихся вокруг немецкого концепта, утвердившегося со временем в западно-европейской истории [Gennari 2014] и педагогике.
Известно, что, наряду с Bildung в немецком языке некоторое время использовались понятия Formierung, Formation (формирование, образование) [Гадамер 1988: 51], производные от лат. forma (форма)5, что опять же, возможно, восходит к форме, которую придала человеку cura. Утверждение в немецкоязычной традиции именно «образной» категории, а не формализованной объясняется, по-видимому, ее сильными мистическими корнями. Итальянский ученый М. Дженнари разворачивает подобную версию в своей статье со знаковым названием «Рождение Bildung» [Gennari 2014]. С точки зрения автора, Bildung – понятие изначально сугубо немецкое, тесно связанное с историей Германии, начиная от средневековой мистики до утверждения финансовой буржуазии XX века [Gennari 2014: 131]. Однако в ходе своего развития оно охватило сначала Центральную, затем – всю Европу, укрепившись в самосознании европейского человека в качестве аналога его гуманистического образования [Gennari 2014: 131]. М. Дженнари считает, что проблема образования человека начинает приобретать всю особенность лингвистического и сакрального характера со времен рейнской мистики и особенно, про-является в трактатах Майстера Экхарта (1260 – 1328) [Gennari 2014: 131]. Именно онтологический вывод Экхарта о присутствии Бога во всем сущем и необходимости для «благородного человека» (так как он существо божественное по своему происхождению) воссоединения с Богом, «который в нем пребывает» [Gennari 2014: 132], лежит в основе объяснения специфики немецкой трактовки Bildung.
Не вдаваясь в подробности философско-теологических и мистико-антропологических построений рейнского мистика и его современного интерпретатора (М. Дженнари), отметим лишь один момент, важный с точки зрения понимания концепта Bildung и отражения в нем cura . М. Дженнари приводит в статье слова Экхарта из его трактата «Vom edlen Menschen»6 : «Душа человека – это поле, где Бог посеял свой образ» [Gennari 2014: 132]. Посеянный образ Бога остается «…в глубине души как живой источник» [Gennari 2014: 132] не только веры, но поиска и знаний. «Образ» по-немецки Bild , отсюда – Bildung . Следовательно, изначально смысл образования ( Bildung ) заключался именно в «(вос) создании в себе образа Бога». Человек формируется «по образу Божьему; в то время как Бог - «очеловечивается», становится гуманным - в этом суть единства Бога и человека [Gennari 2014: 133]. Следует отметить, что, несмотря на несомненную мистическую подоплеку подобного понимания Bildung , Экхарт, по существу, интуитивно воспроизводит басню Гигина. В его интерпретации отсутствует cura , но она явно подразумевается в лице образа (Бога), который существует как-бы вне времени и пространства, над природой. Человек же начинается со стремления раскрыть в себе этот божественный образ, т.е., когда начинает заботится о знании и познании ( curioso ).
В своих исследованиях Г. Кузинато углубляет подобное понимание Bildung . Признавая за заботой и Bildung онтологическое начало, свойственное именно человеку, он, в то же время, подчеркивает «неполноценность» этого онтогенеза, необходимость непрестанного усилия со стороны человеческого существа в направлении изменения, совершенствования, индивидуализации [Cusinato 2013: 71].
Возвращаясь к взглядам Экхарта, отметим, что М. Дженнари поясняет соотношение терминов «образ» ( imago, bild ) и «форма» ( forma, form ) в концепции немецкого мистика так: «…Душа носит внутри себя божественный образ и это делает ее подобной Богу: здесь утверждается августинианство . Разум носит внутри себя форму универсальных типов и это делает его единым с Богом: здесь утверждается аристотелизм . …Христианин понимает себя в горизонте того бытия, что есть мир…Мистик открывает Бога в себе самом» [Gennari 2014: 141]. Несмотря на попытку Экхарта (или М. Дженнари) объединить образ и форму в понятии «человеческая форма божественного образа», здесь явно присутствует противостояние аристотелевского (формального, рационального) томизма и августинской (спиритуальной, внутренне-сакральной) мистики , имевшее место как раз на рубеже XIII-XIV веков. «Разобщенность человека (личности) не означает отсутствие со-причастности, а также отношения солипсистской замкнутости, скорее указывает на уникальность и неповторимость человеческого Я» [Caputo 2014: 131] – замечает Ф. Капуто, анализируя взгляды Фомы Аквинского.
Генетически и филологически Bildung несомненно связывает процесс познания и заботы о себе с божественным образом, однако в более широком образовательном смысле этому понятию предшествовали некоторые другие трактовки, идущие все из той же античности. В этой связи М. Дженнари выводит на первый план древнегреческую παιδεĩα (пайдейя) как концепт, непосредственно предшествующий Bildung. По мнению итальянского ученого, существуют концепты, например – пайдейя, которые изменяются во времени, варьируются на протяжении веков, вплоть до того, чтобы исчезнуть из разговорного языка, появиться снова внутри других слов (педагогика) и, наконец, которые одновременно поддерживают древнее значение и меняют свою внешнюю форму – так случилось с термином Bildung [Gennari 2014: 134].
О непосредственной связи cura , пайдейи и Bildung говорит Ф. Капуто, приступая к характеристике педагогического значения cura : «Слово “забота”… вызывает в памяти процесс,тесно связанный с тем, что мы называем пайдейя (наследие Греции) или Bildung (творение немецкой мысли)…» [Caputo 2014: 116]. Эти понятия ( paideia-Bildung ) стоят вместе при анализе платоновского мифа о пещере у Г. Кузинато, который в этой связи подчеркивает именно (транс)формационный характер подобного образования человека [Cusinato 2013: 48-49].
В. Йегер вообще трактует Bildung через пайдейю : «...наше немецкое Bildung ...отра-жает сущность воспитания в греческом, платоновском смысле. В нем содержится связь с эстетически формообразующим, как бы внутренне предносящимся художнику нормативным образцом, “идеей” или “типом”» [Йегер 2014: 8-9]. Без сомнения, это тот же образ-источник, что был «посеян» богом Экхарта или воплощен духом Юпитера в существе, сформированным Заботой .
Следовательно, обретение человеком образа (образование) – процесс, совпадающий с тем, что описывается древнегреческой пайдейей [Корнетов 2014: 28]. Характеризуя пайдейю, Г.Б. Корнетов приводит слова А.-И. Марру о том, что пайдейя «…становится обозначением культуры, понимаемой не в активном, подготовленном смысле образования, а в том результативном значении, которое это слово приобретает у нас сегодня: состояние полного, осуществившего все свои возможности духовного развития человека, ставшего человеком в полном смысле» [Корнетов 2014: 29]. При этом итальянский философский словарь настаивает на продолжительности процесса обретения пайдейи и невозможности его завершения [Dizionario di filosofia 2009], что весьма созвучно выводам Г. Кузинато.
Древние греки видели в пайдейе путь (а также его педагогическую организацию), который человек должен пройти, изменяя себя в стремлении к идеалу духовного и физического совершенства ( калокагатии ) посредством обретения мудрости, мужества, благоразумия, справедливости и др. Ф. Камби определяет пайдейю как своего рода воспитательную модель, предусматривающую образование молодых людей в рамках двух параллельных действий – воспитания физического и психического (духовного) [Cambi 2009: 26]. Эта модель формирует «этос» народа как совокупность устойчивых, стабильных черт характера индивида (отсюда понятие «этика») [Cambi 2009: 7].
Нравственная идея, как пайдейи, так и заботы, присутствует почти у всех авторов. Например, Ф. Капуто эксплицитно связывает пайдейю с cura, точнее, она рассматривает пайдейю именно как способность взять на себя заботу о ком-то [Caputo 2014: 122]. Причем, с ее точки зрения, только таким образом (заботясь о других) можно и должно вести нравственную (этическую) жизнь [Там же]. Выявляя смысл этики в современном понимании, Ф. Капуто прибегает к ряду этимологий полисемической греческой категории ^0о^ (этос), как ‘места пребывания’, ‘жилища’, ‘семьи’, ‘очага’, а так-же - ‘характера’, ‘способа бытия’ [Caputo 2014: 120]. Поскольку все это, по сути, привычки совместного проживания и гостеприимства, следовательно, им можно научить, их можно воспитать в людях. Тем самым итальянская исследовательница сводит воедино не только пайдейю через заботу о себе и ближних, но и место в лице этоса, которое со временем должно трансформироваться в устойчивые черты (Ф. Камби), которым следует учить людей, объединенных единой судьбой и опять же местом (полисом). Ф. Капуто делает вывод о необходимости заботиться о себе постоянно, всю жизнь, где забота предполагает нерасторжимость смыслов заботы о себе самом, о ближнем и о мире (обществе) [Caputo 2014: 126].
Также и идеал пайдейи не достижим вне «объединенной жизни», вне общности [Cusinato 2013: 44], вне полиса. Возможно, древнегреческий полис действительно явился тем идеальным условием подобного понимания образования вообще, что стало, в свою очередь, специфическим признаком западной педагогики. В этой связи традиционно упоминание беседы Сократа с Алквиадом (Платон, Алквиад – I, 119), в котором философ объясняет юноше, что для того, чтобы заниматься политикой и управлять полисом, надо, прежде всего – «позаботиться о себе», то есть, многому научиться, и понять – что ты сам из себя представляешь. Отсюда связь с дельфийским «познай самого себя», интерпретируемым следующим образом: прежде чем заботиться о других и о себе, пойми, кем и чем ты являешься. Популярность данного диалога у исследователей cura sui , видимо, объясняется именно тем, что в нем лаконично и содержательно выражены все ключевые аспекты феномена: «…Знать самого себя означает в большей степени знать собственную душу и заботиться о ней . Этот процесс самопознания совершенствуется в тот момент, когда душа обращает взор к другой душе…», так как узнать себя и заботиться о себе можно только познавая другого человека [Caputo 2014: 128] и заботясь о нем, и происходить это должно через самосовершенствование - образование ( naiSela , Bildung ), включающее в себя и нравственные стороны. Самопознание и основанное на нем самосовершенствование через общение с другими людьми Л. Мортари считает неотъемлемой чертой человеческого существа [Mortari 2009: 21-24].
«Этический» аспект в трактовке cura и Bildung представляется принципиально важным, так как он отражает изначально нравственные, жизнеутверждающие посылы феноменов. Ф. Капуто сопоставляет греческую ρετ (аретé, добродетель) с итальянским термином benessere (дословно – благосостояние, ближе по смыслу – состояние в благе, добре), трактуемым как «… эмоциональное, ментальное, физическое, социальное и духовное состояние <...>, которое разрешает людям достичь и поддерживать их личный потенциал в обществе» [Caputo 2014: 121]. Тем самым, ‘добродетель’, ‘забота о себе и ближнем’, ‘самореализация’ суть грани пайдейи – первой ипостаси образования , и во всех этих понятиях присутствует четкая неразрывная связь между внутренним миром и развитием личности и необходимостью использовать, тратить себя в мире внешнем, для других людей.
Похожие смысловые оттенки можно обнаружить в другом античном понятии, в отличие от пайдейи сохранявшем свою «внешнюю форму» на протяжении всего средневековья и активно развивавшемся в эпоху Ренессанса – латинском humanitas. Итальянский специалист по классической филологии Р. Онига утверждает, что первоначально термин humanitas не имел отношения к «воспитанию» или «образованию», а значил скорее «благожелательность» [15]. Однако семантика пайдейи с его сильным педагогическим смыслом, несомненно, явилась одной из предпосылок дальнейшего развития значения латинского соответствия. Р. Онига обращает внимание на корни слов homo («человек» в латинском) и pais («ребенок» в греческом), отмечая в греческом термине бóльшую широту, «космичность», направленность именно на то, чтобы «ребенок становился мужем» [Oniga. Электронный ресурс]. Тем самым humanitas, по его мнению, представляет собой «более зрелый продукт» Римской цивилизации и, что особенно важно, «более антропоцентричный» концепт, нежели пайдейя. Кроме того, в распространении идеи humanitas римские историки видели цель и миссию своей империи. Как кажется, здесь кроется существенный момент дальнейшего перехода humanitas в общеевропейский «формат», трансляция смыслов на всю западную культуру, что действительно можно видеть и в период средневековья, и, тем более, в эпоху Возрождения [Сергеев 2007].
О педагогическом контексте humanitas и о ее взаимосвязи с cura sui можно говорить, обращаясь к трактовке термина Цицероном, заслуга которого состоит в том, что он углубил понятие humanitas путем синтеза традиционных нравственных ценностей. В своем «De oratore» он предъявляет оратору следующие требования, разворачивая тем самым собственное понимание humanitas : «… оратор должен отличаться в любом виде беседы и во всем, что касается человека… в любом честном учении и в любом виде человеческого знания…» [Oniga. Электронный ресурс]. Можно видеть, что humanitas для величайшего оратора – это то, что определяет самого челове-ка как человека [Корнетов 2002: 16] и цель человеческой жизни - «...жить согласно человеческой природе, которая реализована лучшим образом и не страдает от отсутствия чего-либо» [Oniga. Электронный ресурс]. В этих словах Цицерона по существу речь идет о cura sui в самом широком ее контексте и не следует забывать, что именно благодаря римскому оратору идея humanitas стала базовой на протяжении веков для гуманистического образования, а греческий феномен заботы о себе интегрирован в формирующуюся римскую культуру без потери его специфики и возведен в ранг универсальной категории [Пичугина 2013: 162].
К аналогичным выводам приходит современный отечественный исследователь философии древнеримского образования О.В. Батлук, выделяя в ряду многочисленных значений humanitas римского оратора такие, как ‘образование’, ‘образованность, ‘просвещение’ [Корнетов 2014: 29-30].
В средневековой теологии понятие humanitas приобрело несколько новое наполнение. Уже у Цицерона прослеживается мысль о том, что человеческая природа может быть полностью постигнута только в сравнении с божественной природой. В дальнейшем этот постулат был развит христианской культурой [Oniga. Электронный ресурс], прежде всего в философии Аврелия Августина. Установкам Августина присущ глубокий психологизм, стремление к моральному насыщению знания - черты, свойственные истинной humanitas и придавшие западной культуре и воспитательным традициям их особые характеристики. Идея humanitas принимает в трактовке Августина новую, по сравнению с римским периодом, окраску: «Каждый человек, по-скольку он человек, должен быть любим Богом» [Oniga. Электронный ресурс]. В то же время, и человек должен любить ближнего и оказывать ему посильную поддержку – это та интерпретация humanitas , которая ляжет в основу понимания истинного предназначения человека, развиваемого уже гуманистами.
Подводя итог анализу концепта humanitas в теологической концепции Августина, Р. Онига утверждает, что «…в произведениях Августина мы чувствуем присутствие действительно эпохальных антропологических изменений, которые было бы недостаточно ограничивать лишь христианской идеологией: мы стоим перед преодолением классической культурной традиции и перед зарождением новой идентичности, которая станет идентичностью со-временного человека. Идея humanitas неожиданно сделала огромный скачок вперед, достигла всемирного размера и беспрецедентной глубины, надолго повлияв на последующую историю западной и мировой культуры. Все это было бы невозможно без Августина…» [Oniga. Электронный ресурс].
Учитывая влияние августинской философии на Экхарта, в том числе, возможное влияние его интерполяций на решение вопроса о взаимоотношениях humanitas и divinitas , можно сделать вывод о действительной преемственности curasui , naiSeia , humanitas и Bildung , ставшей достоянием общеевропейской интеллектуальной и педагогической культуры.
Примечательно, что проблема интерпретации Bildung волнует умы со-временных итальянских исследователей, которые, как отмечалось, употребляют этот термин в неизменном виде, порой в ущерб своей собственной педагогической терминологии. При этом они с сожалением отмечают склонность современников к редукции его понимания к «обучению» и «узко-эмпирический» подход к его использованию [Borrelli 2012: 35]. Говорится также и о том, что, несмотря на живой интерес к проблеме у философов XIX и XX веков (Гегель, Маркс, Фрёбель, Гербарт, Фрейд, Гадамер, «Франкфуртская школа» и др.), заметна тенденция применять понятие Bildung прежде всего к прошлому в ущерб явной актуальности данной педагогической и философской модели [Cambi 2011: 9].
Итальянские мыслители не прекращают указывать на большую значимость этой категории в историко-педагогическом и общегуманитарном смыслах [Cambi 2011: 10]. Так, Ф. Камби часто объясняет Bildung через понятие гуманизации , которая, по его мнению, состоит в призвании человека реализовать самого себя через объективный мир внешней культуры [Cambi 2011: 10]. Причем задача индивида заключается в том, чтобы найти и раскрыть себя заново в этом мире, приобрести опыт «постигнутого»; только тогда можно стать самим собой (человеком), создать «образ самого себя» [Там же]. Процесс этот длится всю жизнь, а его индивидуальная природа и личностный характер проявляются в каждом человеке, реализуясь по-разному, в чем и заключается смысл подобной гуманизации . Другими слова-ми, цель каждого человека – заботиться о себе , понимаемая через формирование и развитие в себе собственной humanitas : своих возможностей, своей всесторонности и цельности [Там же].Тем самым, в этой интерпретации можно видеть явные признаки античной humanitas в актуализированной (с точки зрения автора) Bildung . Схожую трактовку концепта предлагает М. Борелли, считающий образование ( Bildung ) всегда индивидуальным или личностным путем самообразования через воплощение в жизнь humanitas [Borrelli 2012: 37]. Этим идеям созвучны выводы Г. Кузинато [2005] и Л. Мортари [Mortari 2009], настаивающих в своих работах на преобразую-щей функции cura и Bildung .
Понятия пайдейя , humanitas и Bildung неразрывно взаимосвязаны между собой, и не будет преувеличением сказать, что связующим звеном здесь является именно cura sui как некая «онтологическая величина», что отмечал еще М. Хайдеггер: «…Бытие Человека обнаруживается через Заботу » [Mortari 2002: 3]. Образовательные характеристики (признаки Bildung ) в cura sui очевидны, что отмечают фактически все исследователи проблемы, причем не только на уровне «обучать кого-то», но и развивать себя, заниматься самообразованием. Эксплицитно об этом заявляет Ф. Камби, помещая этот процесс в центр отношений майевтики и свободы, объявляя его необходимым в определении идентичности отдельного человека [Камби 2015: 6]. Неслучайно пояснения итальянского ученого обращены именно к учителям, занимающимся на курсах повышения квалификации7 .
Показательно в этой связи мнение отечественного специалиста в области cura sui В.Л. Лехциера, который, не упоминая Bildung, по существу говорит об основных принципах этой категории: «...Конструирование себя в качестве субъекта философского опыта не может быть истолковано чисто технологически. Эллинистическая традиция развития принципа заботы о себе предполагала такую редукцию…Культура себя была понята в основном как культура техник себя…
В наше время технологическая интерпретация заботы о себе также имеет место. Более того, она породила новую культуру – т.н. «тренинговую культуру», которая сегодня во многом определяет стиль заботы о себе…
Однако, как принцип заботы о себе вообще, так и заботу о себе в философском образовании нельзя редуцировать к техне , инструменту, упражнению и т.п. …Поэтому со стороны наставника нам нужно найти такой принцип наставничества, который отсылал бы нас не к технологиям, а к бытию » [Лехциер 2005].
Обращает на себя внимание, что В.Л. Лехциер в оценке современного состояния заботы о себе прибегает к той же терминологии, что Ф. Камби и М. Борелли при их анализе Bildung .
Вместо заключения. Анализ работ современных итальянских философов и филологов по проблеме cura sui позволяет утверждать, что высокие идеалы, отраженные в концепте Заботы и воплощенные в пайдейе, humanitas и Bildung , сохраняют свою жизненность и остаются важными источниками вдохновения и развития современного философского и педагогического знания и образования.
Именно об этом свидетельствует, в частности, монографическое издание «Cura sui e autotrascendimento. La formazione di sé fra antico e postmoderno», в предисловии к которому авторы предостерегают современного человека от безграничного пользования свободой, приводящего к «эмоциональной без-грамотности» и к распространению унизительной «культуры нарциссизма» [Thaumàzein 2013: VII-VIII]. В cura sui авторы видят процесс воспитания в человеке собственных стремлений, подкрепленных вниманием к другим людям и к миру, поскольку именно так осуществляется образование ( Bildung ) личности [Thaumàzein 2013: VIII].
Список литературы О влиянии идей cura sui, ~i, и bildung на европейскую философию образования (на материале работ современных итальянских исследователей)
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики/Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988.
- Йегер В. Раннее христианство и греческая пайдейя/Пер. с англ. М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина», 2014.
- Камби Ф. Забота в педагогике: критические замечания/пер. с ит.//Известия ВГПУ. 2015. № 4 (99). С. 4-9.
- Корнетов Г.Б. История образования и педагогической мысли: Учебно-методический комплекс. М: Издательство УРАО, 2002.
- Корнетов Г.Б. Педагогика. Образование. Школа: пути обучения и воспитания ребенка. М.: АСОУ. 2014.
- Лехциер В.Л. Забота о себе и проблема философского образования//Идея университета и топос мысли. Материалы конференции 3-5 октября, 2005 г. Самара: Самарский государственный университет, 2005. С.51-65. . URL: http://hpsy.ru/public/x4111.htm (дата обращения: 10.02.2015).
- Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб: «Наука», 2007.
- Пичугина В.К. Античный и современный антрополого-педагогический проект заботящегося о себе человека//Известия ВГПУ. 2014. № 4 (89). С. 175-179.
- Пичугина В.К. Антропологический дискурс «заботы о себе» в античной педагогике: монография/Науч. ред. Г.Б. Корнетов. М.: АСОУ; Калуга: ООО «Ваш Домь», 2014.
- Пичугина В.К. Антропологический дискурс «заботы о себе» Марка Туллия Цицерона//Историко-педагогический журнал. 2013. № 2. С. 158-68.
- Хайдеггер М. Бытие и время. .//URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Haid_BtVr/08.php (дата обращения: 06.02.2015).
- Этимологический словарь М. Фасмера. .//URL: http://vasmer.narod.ru (дата обращения: 16.01.2013).
- Borrelli M. La Paideia dell'Occidente//Topologik: rivista internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, 2012, № 12. Р. 24 -38.
- Dizionario etimologico online. .//URL: http://www.etimo.it (дата обращения: 08.02.2015).
- Dizionario di filosofia (2009). .//URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/paideia_(Dizionario-di-filosofia)/(дата обращения: 01.02.2015).
- Cambi F. La "Bildung": una categoria pedagogica significstiva anche in Italia//Topologik: rivista internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali. 2011. № 10. Р. 2-14.
- Cambi F. Manuale di storia della pedagogia. Roma-Bari: Editori Laterza, 2009.
- Caputo F. La cura pedagogica come relazione di aiuto//Topologik -Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, 2014, n. 15. Р. 115-138.
- Cusinato G. Il problema dell'orientamento nella società liquida: autotrasendimento e aver cura come esercizio di trasformazione//Thaumàzein, 2013, № 1: Cura sui e autotrascendimento. La formazione di sé fra antico e postmoderno/a cura di Guido Cusinato, Luigina Mortari e Linda M. Napolitano. -P. 35-84.
- Gennari M. La nascita della Bildung // Studi sulla formazione, 2014, № 1. - P. 131 - 149. // http://www.fupress.net/index.php/sf/article/view/15038 (дата обращения: 08.11.2014).
- Mortari L. Aver cura della vita della mente. Firenze: La Nuova Italia, 2002.
- Mortari L. Aver cura di sé. Milano: Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., 2009.
- Oniga R. L'idea latina di HUMANITAS. . URL: http://www.indire.it (дата обращения: 05.01.2013).
- Thaumàzein. 2013. № 1: Cura sui e autotrascendimento. La formazione di sé fra antico e postmoderno/a cura di Guido Cusinato, Luigina Mortari e Linda M. Napolitano.