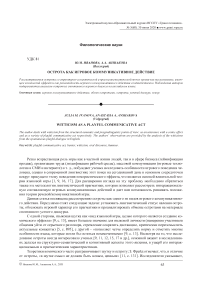Острота как игровое коммуникативное действие
Автор: Иванова Юлия Михайловна, Аншакова Анастасия Андреевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (68), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается острота со структурно-семантической и прагмалингвистической точек зрения как высказывание, имеющее комический эффект и как разновидность игрового коммуникативного действия соответственно. Наблюдения авторов подкрепляются анализом острот из спонтанного игрового диалога на английском языке.
Игровое коммуникативное действие, обмен остротами, острота, устный дискурс, юмор
Короткий адрес: https://sciup.org/148311033
IDR: 148311033 | УДК: 81
Текст научной статьи Острота как игровое коммуникативное действие
Резко возрастающая роль игры как в частной жизни людей, так и в сфере бизнеса (геймификация продаж), организации труда (людификация рабочей среды), массовой коммуникации (игровые технологии в СМИ и интернете) и т. д., побуждает ученых исследовать особенности игрового поведения человека, однако в современной лингвистике этот поиск на сегодняшний день в основном сосредоточен вокруг присущего этому поведению юмористического эффекта, что является основой влиятельной теории языковой игры [1, 9, 16, 17]. Для расширения взгляда на эту проблему необходимо обратиться также и к методологии лингвистической прагматики, которая позволяет рассмотреть интеракциональ-ную составляющую игровых коммуникативных действий и дает нам возможность развивать положе -ния теории речевой/коммуникативной игры.
Данная статья посвящена рассмотрению остроты как одного из видов игрового коммуникативного действия. Перед нами стоят следующие задачи: установить лингвистический статус явления остроты, обосновать игровой характер его прагматики и проанализировать обмены остротами на материале спонтанного устного дискурса.
С одной стороны, языковая шутка как «вид языковой игры, целью которого является создание комического эффекта» [9, с. 15], имеет большое значение для языковой личности (намерения участников общения уйти от серьезного разговора, стремление сократить дистанцию, критически переосмыслить актуальные концепты) [5, с. 895], с другой – «позволяет четче определить норму и отметить многие особенности языка, которые могли бы остаться незамеченными» [9, с. 13]. Несмотря на то, что исследование остроты всегда интересовало ученых [9, 11, 12, 15, 17 и др.], основной акцент в исследованиях делался на структурно-семантический и когнитивный аспекты этого явления, в ущерб его интерак-циональным и прагматическим характеристикам.
Теоретики комического часто разграничивают шутку и остроту; З. Фрейд отмечает, что, в отличие от остроты, «в шутке смысл не должен быть новым, ценным» [11, с. 131]. Исследователи указывают, что острота (witticism) язвительна, требует определенных интеллектуальных усилий для понимания, тогда как шутка определяется как более прямая, явная и доброжелательная [14, с. 36]. В.З. Санников дает следующее определение комического: «Комическое - это такое отклонение от нормы, которое <…> 1) приводит к возникновению двух содержательных планов <…>; 2) ни для кого в данный момент не опасно» [9, с. 22]. Согласно Т. Шрётеру (Thorsten Schroter), языковая игра использует особенности языковой системы для создания когнитивного эффекта, который бы в «неигровом разговоре» сознательно избегался [16, с. 78–79].
«Общая стратегия языковой игры связана с актуализацией и преднамеренным переключением, ломкой ассоциативных стереотипов восприятия лексемы как единицы коллективного и индивидуального сознания» [1, с. 11]. Формальный лингвистический код языковой игры основан на ассоциациях, возникающих благодаря внешней (материальной) форме слова, и «актуализирует преимущественно периферийные компоненты содержательной структуры слова» [Там же, с. 15]. Семантический лингвистический код языковой игры вызывает ассоциации, связанные с внутренней (идеальной) формой слова, «эксплуатирует подвижность ядерно-периферийных компонентов в структуре значения слова» [Там же, с. 17]. Таким образом, языковая игра вообще и острота как ее частное проявление двунап-равлена по оси язык-речь: с одной стороны, она актуализирует готовые языковые формы, переосмысливает и видоизменяет их, с другой стороны – реализует их в речи.
Игровое коммуникативное действие - это вид речевого действия, основными отличительными чертами которого являются несерьезность и автореферентность [3, с. 145]: игровые речевые действия не исполняют своей иллокуции, а лишь означивают ее, например, игровая жалоба («Как вы все меня недооцениваете!») лишь актуализирует скрипт «жалоба» для слушающих, но на самом деле жалобой не является, что обычно сразу понятно окружающим из контекста. Именно в этом проявляется двойственность игры вообще и дискурсивных ее проявлений в частности: в едином акте действие одновременно и совершается, и не совершается. Мы рассматриваем остроту как коммуникативное действие, которое состоит в игровой провокации (приглашении к игровому взаимодействию), и отличительной чертой которого является субъективно оцениваемая собеседниками оригинальность и новизна конструируемого в ней юмора.
В толковых словарях острота определяется как «остроумное выражение, остроумный оборот мысли» [7, с. 1310], однако, судя по всему, острота может пониматься не только как изолированное языковое «выражение», направленное на создание комического эффекта, но и как особое коммуникативное действие, имеющее определенные прагматические особенности в диалоге. В пользу того, что острота, по крайней мере, в русскоязычной лингвокультуре, выделяется как отдельное коммуникативное действие, говорит, в частности, тот факт, что в русском языке присутствует глагол «острить». Так, в Национальном корпусе русcкого языка (НКРЯ) [6] нами было найдено всего около 1900 употреблений глагола острить/сострить, причем в основном он сочетается с такими лексемами как ‘(по)пытать-ся’ ‘Неумело’, ‘(не)удачно’, ‘расположен’, ‘хотетгъ’, ‘хорошо’, ‘отлично’ . Судя по всему, коммуникативное действие, направленное на производство остроты (*острение как коммуникативный акт), воспринимается языковым коллективом в контексте неких условий успешности, поскольку оно квалифицируется по шкалам ‘удачно – неудачно’, ‘умело – неумело’, ‘хорошо/отлично’ – ‘*недостаточ-но хорошо’ и т. д. Кроме того, этому действию можно и нужно учиться (умело - неумело острить), т. к. в контексте реальной речи, когда кто-то пытается острить, острота может оказаться удачной или неудачной . Заметим, что в английском языке присутствует лексема ‘banter’ (существительное и глагол), означающая коммуникативную деятельность, близкую к русскому «обмену остротами». Итак, если с точки зрения семантики острота может быть определена как высказывание, основанное на столкновении двух смысловых планов, противоречие которых разрешается со смехом, то с прагматической точки зрения острота является коммуникативным действием, состоящим в творческом обыгрывании формы и/или содержания предыдущих высказываний в диалоге. Таким образом, видим, что острота является типичным примером игрового коммуникативного действия, а обмен остротами есть частный случай игрового коммуникативного взаимодействия [3].
В качестве метода исследования диалогов, в которых присутствует обмен остротами, мы использовали конверсационный анализ [4, 8, 10], разработанный Г. Гарфинкелем и Х. Саксом и описанный в «Простейшей систематике организации очередности в разговоре» [8]. По мнению конверсационалис-тов, говорящие соблюдают очередность (turn-taking) в диалоге, существуют особые правила и техники назначения чередов (turns). Система речевого обмена является системой локального управления, т. е. назначение чередов происходит по ходу каждого череда [Там же, с. 185]. Говорящий, первым воспользовавшийся правом голоса, задает «интерпретационные рамки для последующих высказываний» [4, с. 40]. Участники беседы должны прогнозировать необходимость отвечать текущему говорящему или понимать, когда можно совершить самовыбор.
Обратимся к анализу материала. В телешоу “The Late Late show” ведущий Craig Ferguson (CF) обсуждает тему лошадей с гостьей, актрисой Kate Mara (KM).
CF (01) hes a horse (0.2) he’s not here if you’re looking for him he’s not here tonight.
KM (03) I thought he would be here.
CF (04) no he was gonna be here but he had something else to do.
Крейг Фергюсон говорит о своей лошади: “he’s not here if you’re looking for him he’s not here tonight” («Его здесь нет, если ты его ищешь. Сегодня он не с нами»). Семантически юмористический эффект этого обмена основан на антропоморфизации лошади. С когнитивной точки зрения, здесь сталкиваются два скрипта, содержащих информацию о двух объектах действительности: «животное» и «гость телешоу», что и вызывает смех.
Однако, что же происходит здесь с прагматической точки зрения? Кейт Мара не только понимает шутку, но и принимает игру, т. е. притворяется, будто лошадь – это гость, которого она ожидала увидеть: “I thought he would be here” («Я думала, он будет здесь»). В этой смежной паре само речевое действие первого говорящего указывает на одно из типичных коммуникативных действий - извинения хозяина по поводу того, что отсутствует ожидаемый гость. В то же время, в силу специфического денотата, мы видим, что это – игра, а не серьезное коммуникативное действие извинения. Благодаря такой типичной технике можно структурировать ответ, взяв один из уже готовых вариантов. Первый говорящий ожидает как внешнего соблюдения конвенции (на извинения в светском общении принято отвечать принятием извинений), так и обязательного использования остроты (тоже по конвенциям, но уже игрового общения). Завершающая реплика является остротой Фергюсона, который дает «объяснение» очеловеченному поведению лошади: “no he was gonna be here but had something else to do” («Нет, он собирался здесь быть сегодня, но у него были другие дела»). Все три остроты имеют сходное абсурдное содержание: обозначают несовместимые объекты, имеют смысл, но существуют без значения, их денотация невыполнима, нет у них и сигнификации [2, с. 58]. Все три остроты формально связаны: обозначение ситуации – оценка ситуации, реакция – объяснение ситуации, ответ на реакцию. В данном случае остроты позволяют сделать интервью более неформальным, и если собеседник принимает правила игры, то можно говорить об успехе коммуникации.
Из приведенного примера видно, что острота, которая, будучи рассмотренной изолированно, действительно представляет собой разновидность языковой шутки, выделяемой на основании своей новизны и оригинальности, может также быть поставлена и в контекст прагмалингвисти-ческого исследования, что дает не менее интересные результаты. Во-первых, мы видим, что обмен остротами позволяет собеседникам поддерживать разговор, сохраняя (внешне) и разрушая (внутренне) формальные отношения между говорящими. Во-вторых, обмен остротами предполагает игровую двойственность коммуникативного фрейма: авторы острот делают вид, что используют типичные «серьезные» формулы, по которым строится общение так, будто они ведут неигровой разговор. В-третьих, если собеседник разоблачает игру (отвечая на остроту: «очень смешно» или «почему вы позволяете себе так шутить») – игра прекращается, а вместе с ней разрушается структура игрового обмена.
Острота выделяется как особый вид игрового коммуникативного действия. В обыденном языке слово «острота» имеет оценочное значение, т. к. связано с понятиями новизны и оригинальности юмо- ра. Жанр обмена остротами также ассоциируется скорее со светским общением хорошо образованных людей. Русским языковым коллективом речевое действие, соответствующее глаголу ‘острить’, мыслится в аспекте следующих оценочных же противопоставлений: удачно – неудачно, умело – неумело, хорошо - недостаточно хорошо. Часто она выполняет функцию игровой провокации в серьезном или нейтральном диалоге и нередко является зачином для такого микрожанра игрового общения как обмен остротами. Обмен остротами предполагает, что говорящие на протяжении нескольких коммуникативных ходов (чередов) поддерживают и развивают взаимодействие, обыгрывая не только значения, звучание, сочетаемость и т. п. отдельных слов и словосочетаний, но и прагматику целых высказываний. По нашим наблюдениям, говорящие воспринимают продолжение обмена остротами как предпочитаемую практику, в противоположность игнорированию острот, которое, в свою очередь, является практикой отказа от игрового общения.
В качестве перспективы данного исследования мы видим изучение структуры и видов обмена остротами с использованием методов лингвистической прагматики и конверсационного анализа.
Список литературы Острота как игровое коммуникативное действие
- Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал. гос. пед. унт, 1996.
- Делёз Ж. Логика смысла / пер. Я.И. Свирского.М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.
- Иванова Ю.М. Модифицированный повтор как маркер игровой интенции // Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и праве: проблемы и перспективы реализации в современной цифровой среде: материалы Междунар. науч.прак. конф. Волгоград: Перемена, 2018. С. 144–147.
- Исупова О.Г. Конверсационный анализ: представление метода // Социология: методология, методы, математические модели. 2002. No 15. С. 033–052.5. Карасик В.И. Алгоритмы построения комических текстов // Вестник РУДН. Сер.: Лингвистика. 2018. Т. 22. No 4. С. 895–918.
- Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru/new/ (дата обращения: 04.04.2020).
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: https://www.libfox.ru/201525sergeyozhegovtolkovyyslovarrusskogoyazyka.html (дата обращения: 20.10.2019).
- Сакс Х., Щеглофф Э.А., Джефферсон Г. [и др.]. Простейшая систематика организации очередности в разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. No 1. С. 142–202.
- Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Турчик А.В. Конверсационный анализ речевого взаимодействия в ситуации исследовательского интервью: дис. ... канд. социол. наук. М., 2010.
- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб.: Унив. кн.; М.: АСТ, 1997.
- AttardoS., RaskinV. Linguistics and Humor Theory// The Routledge Handbook of Language and Humor. New York, 2017. P. 49–63.
- Burgoon J.K., Hale J.L. Nonverbal expectancy violations: Model elaboration and application to immediacy behaviors. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03637758809376158 (дата обращения: 20.10.2019).
- Hempelmann С.F. Key Terms in the Field of Humor // The Routledge Handbook of Language and Humor. New York, 2017. P. 34–48.
- RuizGurillo L. Metapragmatics of Humor. Current Research Trends. Amsterdam, 2016. P. 79–101.
- Schröter T. Shun the Pun, Rescue the Rhyme? – The Dubbing and Subtitling of LanguagePlay in Film. Karlstad: Karlstad University Studies, 2005. [Электронныйресурс]. URL: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:6402/FULLTEXT01.pdf (дата обращения: 20.10.2019).
- Wilson D. Irony, Hyperbole, Jokes and Banter // Context selection in Relevance – Theory Formal Models in the Study of Language: Applications in Interdisciplinary Contexts, 2017. P. 201–219. [Электронныйресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/314422986_Context_selection_in_Relevance_Theory (дата обращения: 20.10.2019).