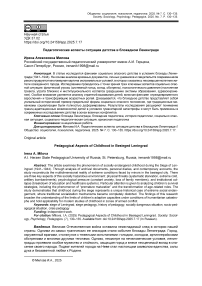Педагогические аспекты ситуации детства в блокадном Ленинграде
Автор: Милова И.А.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется феномен социально опасного детства в условиях блокады Ленинграда (1941-1944). На основе анализа архивных документов, личных дневников и свидетельств современников реконструируется многомерная картина экстремальных условий, в которых оказались несовершеннолетние жители осажденного города. Исследование проводилось с точки зрения трех ключевых аспектов социально опасной ситуации: физической угрозы (системный голод, холод, обстрелы), психологического давления (постоянная тревога, утрата близких) и институционального коллапса (разрушение системы образования, здравоохранения). Особое внимание уделяется анализу стратегий выживания детей, включая феномен «преждевременного взросления» и трансформацию возрастных ролей. Доказывается, что блокадное детство представляет собой уникальный исторический пример предельной формы социально опасного положения, где традиционные механизмы социализации были полностью деформированы. Результаты исследования расширяют понимание границ адаптационных возможностей детей в условиях гуманитарной катастрофы и могут быть применены в современных исследованиях детства в зонах военных конфликтов.
Блокада ленинграда, блокадная педагогика, история педагогики, социально опасная ситуация, социально-педагогическая ситуация, кризисная педагогика
Короткий адрес: https://sciup.org/149148977
IDR: 149148977 | УДК: 37.02 | DOI: 10.24158/spp.2025.7.17
Текст научной статьи Педагогические аспекты ситуации детства в блокадном Ленинграде
Особенностью повседневной жизни в блокадном Ленинграде было то, что в борьбе за выживание и в защите города участвовали все его жители, в том числе женщины, старики и дети. Взрослые, истощенные и измученные, продолжали работать на заводах, тушить пожары, поддерживать порядок на улице и в домах, заботиться друг о друге. Дети, несмотря на свой юный возраст, также вносили свой вклад в спасение города: вместе со взрослыми они дежурили на крышах, помогали в госпиталях, заботились о младших и многое другое. Взаимодействие поколений в экстремальных условиях блокады Ленинграда приобрело качественно новый характер: взрослые стремились к защите детей и подростков, в то время как дети брали на себя посильные обязанности и ответственность, стремились к помощи и поддержке окружающим.
Для того чтобы в полной мере осмыслить масштаб подвига ленинградцев, а также рассмотреть специфику социально-педагогической ситуации детства ребенка блокадного Ленинграда, необходимо обратиться к истории повседневности – направлению изучения исторических событий, которое позволяет их увидеть не только через призму стратегических операций и глобальных событий, но и через судьбы обычных людей, их быт, эмоции, переживания, а также способы адаптации к сложившимся условиям. Как писал Б.М. Бим-Бад, «смысл истории, то есть жизни человечества, теснейшим и притом двояким образом связан со смыслом жизни отдельного человека. <…> Общество состоит из людей, своими действиями или уклонениями от действий к нему принадлежащих. Стало быть, неповторимая единичность, или идентичность человека, есть результат пересечения и взаимодействий индивидуума и общества, их историй»1.
Применительно к ситуации блокады Ленинграда мы можем говорить о том, что повседневная жизнь горожан, которая заключалась в ежедневной борьбе, отражает истинную глубину трагедии и силу духа людей. Рассмотрение архивных материалов, репрезентирующих рутину повседневной жизни педагогов и детей блокадного города, позволило нам раскрыть специфику ситуации детства ребенка в условиях военного времени.
Методология исследования . Для рассмотрения педагогических аспектов ситуации детства в блокадном Ленинграде значимыми становятся два направления: классическое (системное) и неклассическое (антропологическое). Первое определяет идеи, связанные с познанием объекта в логике постижения общих закономерностей его функционирования и развития. Для педагогической науки значимым в рамках данного направления является рассмотрение ребенка как мыслящего существа, как субъекта осознанного социального действия. Антропологический подход предполагает, что существуют те стороны человеческого существования, которые не поддаются рациональному объяснению, а ребенок в рамках данной методологии понимается как субъект переживающий. Исследование педагогической реальности блокадного Ленинграда с точки зрения данных методологий позволило, с одной стороны, осветить значимые факты истории города; с другой – раскрыть их с точки зрения анализа индивидуальных характеристик человеческой ситуации.
Результаты . Само понятие «ситуация» в широком смысле предполагает такое пространство встречи мира и человека, которое характеризуется единой структурой (Мануковский, 2012). Специфику ситуации детства ребенка блокадного Ленинграда целесообразно раскрыть с точки зрения понятий «социально-педагогическая ситуация» и «социально опасная ситуация».
С.А. Расчетина, В.Э. Зюсс разрабатывают понятие социально-педагогической ситуации в области социальной педагогики. Согласно им, «ситуация выступает как область социальных проблем ребенка, поле его жизнедеятельности, среда, способствующая или препятствующая социальному развитию, арена для проявления личностных потребностей, интересов и эмоций. Это особая область «со-бытия» ребенка с другими, значимыми лицами. В поле зрения социального педагога находится реальная ситуация нарушенных связей и образ ситуации будущего» (Расче-тина, Зюсс, 2013).
Социально-педагогическая ситуация может быть представлена с двух сторон. С одной стороны, как результат событий прошлого и настоящего; с другой – как итог настоящего и будущего (Расчетина, Зюсс, 2013). Анализ социально-педагогической ситуации в рамках первой позиции предполагает ее рассмотрение в контексте действия ряда неблагоприятных факторов как социально опасной и трудной жизненной ситуации. В качестве основных характеристик, отличающих ее от благоприятной среды взросления, можно назвать следующие: объективно нарушены процессы социализации ребенка, имеют место трудности самостоятельного преодоления несовершеннолетним проблемного состояния, наличие потребности у ребенка в организации специальных действий со стороны взрослых (в том числе органов государственной власти по оказанию поддержки)2.
Ситуация детства в блокадном Ленинграда характеризовалась рядом специфических внешних условий, которые приводили к угрозе жизни и здоровью детей (Пянкевич, 2010). К таким внешним условиям мы можем отнести: артиллерийские обстрелы, голод, холод, смерть. Все данные аспекты жизни людей в блокадном Ленинграде составляли картину взросления ребенка и нашли отражение в дневниках и воспоминаниях педагогов и детей1.
Условие 1. Артиллерийские обстрелы. Они оказывали значительное воздействие не только на психологическое состояние детей и взрослых, но и на процессы обучения в связи с необходимостью постоянных передвижений во время занятий и уроков в бомбоубежища и длительного нахождения в них, зачастую без еды, воды и отопления. Это сказывалось на возможности детей получать образование. Вынужденное подобное положение педагогов способствовало возникновению необходимости профессионального ответа на сложившиеся условия. Например, директор школы № 33 Василеостровского района в первый учебный год блокады пишет: «Учителя имеют двойной план работы: один – на случай бомбежки для занятий в бомбоубежище, другой – при условиях спокойного дня. Сегодня пришлось вести часть занятий в бомбоубежище. Разделились на группы и не мешали друг другу. Такое мероприятие переключило внимание детей от бомбежки на учебу»2.
Условие 2. Холод. Как и артиллерийские обстрелы, на педагогический процесс значительное влияние оказывал холод. Особенно тяжелой оказалась первая блокадная зима, когда люди столкнулись с морозом, однако несмотря на тяжелые условия нахождения в неотапливаемых помещениях уроки в школах продолжались: «Придешь, бывало, в школу, а в классе темно, холодно, как в погребе. За ночь чернила промерзли до дна. Возьмешь чернильницу в руки и начинаешь дуть, чтобы отогреть ее своим дыханием. Только перестанешь дуть, она опять покроется ледяной коркой» (воспоминания учеников 239-й школы из собрания материалов К.В. Ползиковой-Рубец)3.
Условие 3. Голод. Суточный рацион в декабре 1941 г. составлял 234,8 г (684 калории) (Лан-нуа, 2009). Согласно современным данным, норма потребления калорий детьми младшего школьного возраста (7–10 лет) составляет в среднем 2 400 ккал в день, детей подросткового возраста (11–13 лет) – приблизительно 2 850 ккал4. Сравнительный анализ указанных данных свидетельствует о том, что несовершеннолетние блокадного Ленинграда получали питание в четыре раза ниже установленной нормы потребления калорий.
Условие 4. Смерть. Для многих детей травмирующим фактором блокады Ленинграда стало столкновение со смертью: погибали близкие и незнакомые люди, взрослые и дети. Часто ребенок становился свидетелем смерти и был вынужден наблюдать ее постоянно: «Я беру кастрюли и направляюсь за водой. На площадке под ногами труп с раскинутыми руками. <…> На улице тихо. Ни трамваев, ни весело катающихся на коньках ребят. Пройдет женщина, везя на санках завернутого в простыню покойника. Люди идут, понурив голову, истощенные, худые. Я невольно закипаю злобой на немца…» (воспоминания Зои Гущиной, шестиклассницы)5.
Условие 5. Необходимость эвакуации. Отношение детей к возможности выезда из города в течение блокады Ленинграда видоизменялось и не было однозначным, несмотря на современную очевидность необходимости спасения детей путем переселения их в более стабильные условия жизни. Д.А. Вычеров указывает на то, что у многих несовершеннолетних в первые месяцы блокады преобладало негативное отношение к эвакуации (Вычеров, 2019). Ученый приводит свидетельства широко и глубоко развитых патриотических устремлений детей. Например, в дневнике пятнадцатилетней Майи Бубновой говорится: «В 20-х числах июня 1941 г. я боялась, что война пройдет мимо меня, то есть что она кончится в несколько дней, и я ничего не увижу, что мне не придется столкнуться со всеми ее трудностями, которые я очень смутно себе представляла, поэтому-то и было интересно, и хоть на минуту стать похожей на участников гражданской войны, которым я искренне завидовала; хоть чем-нибудь помочь моей стране, почувствовать и доказать, что и ты не зря землю топчешь, что и твоя пара рук пригодилась»6. Или, к примеру, так ребенок писал о нежелании покидать родной город, расставаться с друзьями и близкими: «Расстаться с ребятами, со всеми нашими делами! Для чего я училась перевязывать раненых? Для чего мне дядя Миша принёс детский противогаз?». Постепенно, по мере наступления продовольственного кризиса, обострения проблем блокадного города, ситуация отношения детей и взрослых к вопросам эвакуации стала трансформироваться.
Условие 6. Необходимость резкого психологического взросления детей. Оно характеризовалось умением действовать и принимать самостоятельные взрослые решения в экстремальных условиях, нести ответственность за младших детей в семье, особенно в случае гибели родителей и отсутствия рядом близких родственников, способных оказать помощь и поддержку. Например, девочка Оля, двенадцатилетняя школьница, жертвенно отдавала младшему брату свою порцию еды, чтобы помочь ему справиться с голодом и дать возможность выжить в голодное время1.
Условие 7. Специфика обучения (особенно в первый блокадный год). Особенности обучения детей в школах в военное время определялись обстоятельствами, в которых дети вынуждены были расти и развиваться: постоянные бомбежки и артобстрелы, голод, холод, психологически травмирующие ситуации. Несмотря на выраженные сложности обучения, постановлением Бюро Ленинградского Горкома партии утверждалось, что образовательный процесс не должен был прекращаться2.
Обучение детей в школах характеризовалось следующей спецификой: сокращенная длительность учебных будней (в первый год блокады: 2–3 урока в день продолжительностью 20–25 минут), необходимость участия школьников и педагогов в разборе разрушенных зданий, холод, голод, частые прерывания занятий для эвакуации в бомбоубежище (Мубаракшина, 2020). Данные характеристики ситуации обучения стали для ленинградских детей обыденными.
Итак, в условиях тотальной блокады города на Неве детство как социально-возрастная категория столкнулось с беспрецедентным комплексом угроз, анализ которых требует в том числе и многоуровневого рассмотрения. Описанные ранее условия блокадного Ленинграда могут быть структурированы по трем взаимосвязанным уровням социальной опасности: физиологический, психологический, институциональный.
На физиологическом уровне прямую угрозу биологическому существованию создавали следующие факторы: перманентное состояние голода, экстремальный холод и отсутствие элементарных санитарных условий.
Психологический уровень опасности проявлялся в глубокой деформации психических процессов и эмоциональной сферы человека. Детские дневники свидетельствуют о феномене «привыкания к смерти» (психологической адаптации к постоянной встрече со смертью при гибели родственников, друзей и незнакомых людей). На психологическом уровне также у несовершеннолетних, вследствие негативных блокадных условий (в первую очередь, голода), отмечались рассеянность, провалы в памяти, полная апатия.
Институциональный уровень социальной опасности характеризовался тотальным коллапсом традиционных систем социализации. Значительным образом трансформировались институты семьи, образования, здравоохранения.
Важно подчеркнуть, что указанные уровни не просто сосуществовали, а находились в постоянном взаимодействии, создавая эффект «каскадной уязвимости»: физическое истощение усугубляло психологическую травму, а разрушение социальных институтов лишало детей последних механизмов защиты. Однако, как показывает история, педагогическая система, которая сумела адаптироваться к условиям блокадного Ленинграда, сыграла ключевую роль в борьбе против полной десоциализации и дегуманизации детского населения города.
Наиболее значимыми для нашего исследования стали архивные материалы, демонстрирующие внутреннее отношение ребенка к сложившимся условиям блокадного города. К ним относятся дневники, воспоминания, единичные записи. Многие из изученных материалов свидетельствуют о всех ранее описанных трудностях блокадного Ленинграда, как об обыденных явлениях военного времени (Дербилова, 2020). В сложившихся экстремальных условиях ярко актуализировался внутренний потенциал детей и педагогов. Перед последними встала важнейшая задача сохранения человеческого в детях, поддержки их в кризисной ситуации блокадного времени. В дневниковых записях и отчетах учителей существуют свидетельства того, как они воспринимали свою профессиональную миссию в период блокады: «Главное сознавать себя и быть советским учителем и ленинградцем, жить жизнью всей страны, работать бодро, охотно, дому помогать, чем возможно. Быть все время занятой и в общении с людьми, разделяя их трудности и горе, сознавать, что все личное отступает перед общим, что все невзгоды – ничто по сравнению с бедствиями людей во всем Союзе, с задачами любимой Родины»3.
Согласно суждениям Л.В. Дербиловой, С.В. Подгорновой (2020) и архивным материалам, педагоги блокадного Ленинграда учили дошкольников и школьников тому, как пережить свалившиеся на них трудности военного времени: холод, голод, страх, потерю близких: «Школа видела свою важнейшую задачу в том, чтобы воспитать в детях чувство советского патриотизма, в котором, как в фокусе, отражаются все лучшие проявления воли, характера, ума»1.
Заключение . Блокада Ленинграда создала экстремальные условия для жизнедеятельности людей: они оказались в ситуации экстремального выживания, что позволяет рассматривать данный исторический опыт через философскую концепцию «пограничной ситуации» (Ясперс, 2000). Согласно К. Ясперсу, человеческие ситуации бывают двух видов. Одни из них могут быть изменены индивидом, соответственно он с ними справляется. Другие – неизменны по своей сути, и в таких случаях человек оказывается перед ними бессилен (Ясперс, 2000). К таким ситуациям, которые философ назвал «пограничными», относят смерть, случай, вину и ненадежность мира. Для детей блокадного Ленинграда ими стали условия голода, холода, артобстрелов, постоянной угрозы смерти и разрушения привычного мира, что радикально отразилось на детском восприятии действительности и определило необходимость резкого взросления.
Педагоги в указанных условиях оказались в двойственном положении. С одной стороны, они сами боролись за выживание; с другой – пытались сохранить функцию воспитания и обучения, что требовало от них особого напряжения духовных и физических сил. Педагогической миссией в блокадном Ленинграде стали не только обучение и воспитание детей в рамках педагогического процесса, но и психолого-педагогическое сопровождение, поддержка и защита в мире, где разрушались социальные институты.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на сравнительный анализ опыта блокадного Ленинграда и современных конфликтов для выявления универсальных механизмов педагогического реагирования на экстремальные условия. Особую ценность представляет разработка теоретической модели «педагогики катастроф», а также адаптация исторических данных для современных программ поддержки детей в зонах военных действий. Эти направления позволят не только углубить теоретическое понимание феномена, но и выработать практические решения для работы с детьми в условиях гуманитарных кризисов.