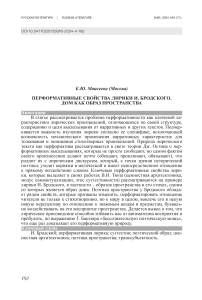Перформативные свойства лирики И. Бродского. Дом как образ пространства
Автор: Моисеева Е.Ю.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
АВ статье рассматривается проблема перформативности как ключевой характеристики лирических произведений, отличающихся по своей структуре, содержанию и цели высказывания от нарративных и других текстов. Подчеркивается важность изучения лирики согласно ее специфике, исключающей возможность механического применения нарративных характеристик для толкования и понимания стихотворных произведений. Природа лирического текста как перформатива рассматривается в свете теории Дж. Остина о перформативных высказываниях, которые не просто сообщают, но самим фактом своего произнесения делают нечто (обещают, проклинают, обязывают), что роднит их с лирическим дискурсом, который, с точки зрения исторической поэтики, уходит корнями в магический и имеет непосредственное отношение к прямому воздействию словом. Ключевые перформативные свойства лирики, которые выделяет в своих работах В.И. Тюпа (ценностная архитектоника, модус самоактуализации, этос суггестивности) рассматриваются на примере лирики И. Бродского, в частности - образов пространства в его стихах, одним из которых является образ дома. Поэтика пространства у Бродского обладает рядом свойств, которые призваны изменить, перформатировать отношение читателя не только к стихотворению, но к миру в целом, вовлечь его в некую новую перспективу по отношению к знакомым вещам и предметам, буквально воздействовать на его восприятие пространства. Делается вывод о том, что лирическое произведение способно избавить нас от автоматизма восприятия и пробудить, по выражению Г. Башляра «бессознательную поэтическую мощь», что еще раз доказывает его перформативную природу.
И. бродский, перформативная лирика, суггестия, поэтический образ, ценностная архитектоника, поэтика пространства, транссубъектность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147128
IDR: 149147128 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-192
Текст научной статьи Перформативные свойства лирики И. Бродского. Дом как образ пространства
J. Brodsky; performative lyrics; suggestion; poetic image; value architectonics; poetics of space; transubjectivity.
Время и пространство традиционно считаются основополагающими категориями поэтики И. Бродского. Их анализу, интерпретации и толкованию посвящено большое число работ, многие из которых уже стали своего рода классикой исследований творчества поэта и представляют значительную ценность для всех, кто интересуется изучением его наследия. Будучи во многом создателем и конструктором собственной поэтики, Бродский подтверждал целесообразность таких поисков, замечая: «Вообще, считается, что литература, как бы сказать – о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек делает с другим человеком и т.д. В действительности это совсем не правильно, потому что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь – не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о пространстве и о времени» [Бродский 2011, 147].
Однако если говорить о подходах к изучению этих категорий, то нередко можно встретить так называемый «хронотопический» взгляд на лирику, где пространство и время рассматриваются как обязательные составляющие хронотопа, согласно тем характеристикам, которыми в своих работах наделяет его М.М. Бахтин: «В настоящей работе мы идем в обратном направлении: от концепта, слова “дом”, которое более чем широко и в необозримых его коннотациях обнаруживается в стихах Бродского – к Дому-парадигме. На этом пути обнаруживаются новые пространственно-временные структуры в творчестве поэта, имеющие свою символику ее содержания, и которые в целом подпада- ют, используя термин М. Бахтина, под понятие хронотопа Бродского» [Авербух, Прозорова 2022].
При всей многообещающей содержательности такого подхода он не всегда оказывается релевантен: поскольку в хронотопе важно наличие обеих категорий – времени и пространства, одно не может существовать без другого, чтобы воспроизвести «венецианский хронотоп Бродского» или «петербургский хронотоп», или любой другой, исследователь «восполняет» недо статочную выраженность того или иного аспекта в стихах поэта, заботясь о целостности концепции. Разумеется, речь идет не обо всех исследованиях пространства и времени в лирике И. Бродского, но лишь о некоторой тенденции, которая имеет место в работах, уравнивающих стихи, эссеистику и даже письма, чтобы рассмотреть их как некий единый текст, где стихи – это часть сложного большого над-нарративного целого, возможно самая вычурная, но принципиально не отличающаяся от других.
Однако, по мысли В.И. Тюпы, «на конфигурацию пространственно-временных параметров в лирике ошибочно переносить понятие хронотопа. Данный аспект художественности был выявлен Бахтиным на материале нарративных высказываний <…> анарративное лирическое откровение <…> нередко бывает начисто лишено временной или, напротив, пространственной локализации» [Тюпа 2013, 117]. Попытка рассмотрения лирического текста по аналогии с нарративным лишает исследователя возможности проникнуть в суть поэтического высказывания, совершаемого с иной целью и по своим законам, отличающимся от рассказа не только двойной сегментацией речи, превращающий его в стихотворение, но самой своей природой.
«С позиций исторической поэтики, – пишет В.И. Тюпа, – представляется несомненным, что лирический дискурс формируется на базе дискурса магического, вырастает из заклинаний» [Тюпа 2013, 112]. Магическое же слово не стремится нас научить, развлечь или рассказать нам историю: оно возникает, чтобы оказать на нас какое-то воздействие, сделать с нами что-то, что возможно совершить исключительно и только произнесением некоей формулы, некоего перформатива. Соответственно, рассмотрение лирики в самой ее сути – это рассмотрение перформативных высказываний (шире – перформативных жанров) в том значении, которое изначально предлагает в своих размышлениях Дж. Остин [Остин 2006].
Разумеется, речь не идет о том, что поэтическое слово равно магическому и обладает какой-то волшебной силой, однако нельзя отрицать, что оно делает с нами что-то, и это воздействие меняет наше отношение не только к лирическому произведению, но к самой коммуникативной ситуации и в перспективе – к миру в целом. Вопрос в том, как именно действует лирика? И главное – как оно это делает? Какие механизмы лежат в основе поэтического (перформативного) воздействия?
Говоря о перформативных высказываниях, Дж. Остин так объясняет их отличие от остальных: «Было бы абсурдным рассматривать то, что я говорю, в качестве простого сообщения о совершении действия – заключения пари, именования, принесения извинений. Скорее дело здесь обстоит таким образом, что я делаю, я тем самым совершаю это самое действие. Когда я говорю “я называю это судно ‘Королева Елизавета’”, я не описываю церемонию именования, но тем самым, собственно, именую» [Остин 2006, 264]. Далее он предлагает именовать подобного рода высказывания, перформативными, перечисляет их признаки и условия возникновения. Все эти слова, по Остину, должны про- износиться в особых обстоятельствах, поскольку «очевидно, что существует некая конвенциональная процедура, осуществление которой посредством произносимых нами высказываний мы имеем своей целью» [Остин 2006, 266].
Если проецировать это утверждение на поэтические высказывания, то придется согласиться с тем, что хотя мы прекрасно помним, что «цель поэзии – поэзия», справедливо также и то, что цель поэзии – воздействие, что конвенциональная процедура, которую стремится осуществить стихотворение – это «выбить» нас из привычного мироощущения, вовлечь в поэтическое звучание речи, околдовать, претворить, оказать влияние на наше бытие-в-себе и быти-е-в-мире.
«Перформатив является древнейшим родом говорения, мотивированным магической силой творящего и претворяющего слова. “Перформативное ядро культуры” базируется на архаичных представлениях об онтологических возможностях магического дискурса, задающего бытийственные характеристики предметов, существ, отношений», – отмечает В.И. Тюпа [Тюпа 2013, 115]. И поэтическое слово видит эти «онтологические возможности дискурса» в суггестии, в немедленном вовлечении адресата в звучащую поэтическую речь, в диалог, открывающий возможности не только для нашей впечатлительности, но для нашей души.
Какое условие является необходимым для этого диалога – в перспективе – хоровой поддержки лирического произведения? Очевидно, так же как нарративное высказывание обращается к нашему опыту, перформативное стремится задеть некие струны, которые отвечают за наше внутреннее устройство, нашу систему ценностей. И ценности, заложенные где-то в основании нашей личности, некие архетипические структуры, отвечающие за представления о собственном «я» и о других «я», о своем и чужом, о доме и о мире, о времени и пространстве – оказываются во власти стихотворения. Однако почему идея начать поиски с образа дома, когда речь идет о пространстве как таковом, о пространстве вообще, нередко кажется исследователям такой привлекательной идеей?
Г. Башляр в книге «Поэтика пространства» говорит об образе дома как «об инструменте анализа человеческой души», поскольку именно дом «является нашей первоначальной Вселенной» [Башляр 2022, 39]. Сила притяжения, которую мы ощущаем, сосредотачивает образы вокруг дома, в нем взаимосвязаны наши память и воображение. Дом становится собранием образов, дающих человеку обоснованное или иллюзорное чувство надежности, ощущение жизни, равно как покинутый дом является в той или иной степени метафорой оставленности и смерти.
Башляр приводит пространную цитату из Юнга, который сравнивает «структуру человеческой души» с неким строением, зданием, верхний этаж которого был возведен в XIX в., а в погребе можно обнаружить остатки древнеримского фундамента, а под ним – засыпанную пещеру с кремниевыми орудиями и «останками фауны ледникового периода» (цит. по: [Башляр 2022, 33]). При всем несовершенстве метафоры сравнение дома с душой – неслучайно, и действительно, говоря об образе дома мы можем, слой за слоем, исследовать наши собственные образы и глубины памяти и воображения.
Каким же образом поэту удается сказать нечто новое о предмете столь нам знакомом? Такова сила поэтического образа. К примеру, стихотворение И. Бродского «Все чуждо в доме новому жильцу» (1962) вовлекает нас в ситуацию некоего столкновения, противостояния оставленного жилища, наделенно- го собственной волей, и «нового жильца», который не подходит дому, которого «не узнает замок» и даже «тени», которые у Бродского всегда выполняют важную субъектную функцию:
Все чуждо в доме новому жильцу.
Поспешный взгляд скользит по всем предметам, чьи тени так пришельцу не к лицу, что сами слишком мучаются этим.
Но дом не хочет больше пустовать. И, как бы за нехваткой той отваги, замок, не в состояньи узнавать, один сопротивляется во мраке [Бродский 2001–2003, I, 184].
И это противостояние оказывается не только столкновением дома и человека, но человека и человека, нового хозяина и прежнего, новой жизни – и свершившейся смерти. Дом оказывается участником и центром противостояния, в котором уже ничего нельзя поделать, слишком взаимоисключающи статусы обоих его хозяев, но при этом – единственным, что их когда-либо связывало:
Да, сходства нет меж нынешним и тем, кто внес сюда шкафы и стол, и думал, что больше не покинет этих стен; но должен был уйти, ушел и умер.
Ничем уж их нельзя соединить: чертой лица, характером, надломом. Но между ними существует нить, обычно именуемая домом [Бродский 2001–2003, I, 184].
Если задаться вопросом, когда именно происходит с нами перформативное вовлечение в диалог и изменение всей коммуникативной ситуации в целом, то можно с уверенностью указать на финал стихотворения. В обыденной жизни, в обыденной речи слово «нить» будет далеко не первым, которое придет нам в голову, чтобы, пускай метафорически, определить «дом». В обыденной речи мы связаны более линейными представлениями и сравнениями, которые могут привести нашу мысль к таким эпитетам как «убежище», «защита», «крыша над головой» – к чему-то, что связано с образом дома логически. Но поэтический образ мгновенно устраняет существующие преграды. Явление образа, согласно Г. Башляру, имеет «непосредственную антологию» [Башляр 2022, 9]. Сила его – не в причинности, а в воздействии новизной. «В этом воздействии поэтический образ обретает бытийную звучность. Поэт высказывается на пороге бытия» [Башляр 2022, 9].
Спонтанная динамика образа «растормаживает» нашу собственную творческую активность. Хоровая принадлежность в лирике – это не просто согласие с образом, это желание вступить в диалог со стихотворением, поведать ему о себе – такова транссубъективная сила воздействия.
Настоящий поэт всегда интуитивно представляет себе эту возможность, он интуитивно выбирает темы, одновременно уникальные и всеобщие, по- скольку только в поэзии нечто – скажем, слово «дом», может быть произнесено с такой убежденностью, что становится центром стихотворения.
Г. Башляр, говоря о силе воздействия поэзии, различает два, казалось бы, синонимических понятия, имеющих большое значение для суждений о перформативности лирики – отзвук и отклик. «В отзвуке, – говорит он, – мы слышим стихотворение, а в отклике мы даем ему наш голос, оно становится нашим. Отклик подменяет одно бытие другим. Кажется, что бытие поэта стало нашим бытием» [Башляр 2022, 15]. По мнению философа, «отклик на единичный поэтический образ пробуждает в душе читателя способность к поэтическому творчеству. Своей новизной поэтический образ растормаживает лингвистическую активность человека. Поэтический образ возвращает нас к моменту, когда люди только учились говорить» [Башляр 2022, 15].
Рискнем предположить, что сила, качество и продолжительность этой «поэтической мощи», глубоко индивидуальны и разнятся не только от читателя к читателю, но и от поэта к поэту. Есть поэты и произведения, которые ошеломляют, интригуют, завораживают, вызывают восторг или ужас – в случае Бродского, это чаще всего – некое новое видение, новое созерцание пространства, принципиально пустующего, оставленного, по отношению к которому он занимает позицию созерцателя, «свидетеля и судии», и на которое он приглашает взглянуть читателя.
Это всегда новый и практически лишенный эмоций взгляд. Бродский принципиально не сентиментален, его увлечение англо-американской поэзии – это во многом желание добиться другого голоса, гипнотического, монотонного, не мешающего времени и пространству звучать сквозь него.
Дом для него – не только «нить», но и собрание вещей, которые всегда окружают человека, но никогда не дают проникнуть в свою суть. По Бродскому, мы не понимаем вещи, мы можем только констатировать их наличие, бесконечно перечислять их, и он вовлекает нас в это перечисление:
Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы, ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье, среди бумаг, в столе, в готовой речи, в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле остывшего камина, в каждой вещи [Бродский 2001–2003, I, 231].
От этого перечисления в читателе, попавшего под гипноз монотонной поэтической речи, рождается некий новый взгляд на окружающие его предметы. Они вдруг начинают выглядеть незнакомо и странно, они больше не принадлежат нам, мы словно смотрим на них глазами «нового жильца» – и автоматизм восприятия перестает действовать на нас, мы оказываемся в новом измерении реальности – новом пространстве, которое может показаться лишенным иллюзий, равнодушным, пугающим, но определенно сообщающим некий абсо- лютно новый, вполне возможно, не совсем человеческий (ястребиный? ангельский?), взгляд на вещи.
Эту черту Бродского - заставлять читателя смотреть на все под новым углом, из какой-то новой, не свойственной человеку перспективы, подмечает у поэта И.В. Фоменко в работе «Три статьи о поэтике. Пушкин. Тютчев. Бродский»: «Бродского, как видно из его зрелых стихов, постоянно преследует мысль о многомерности бытия и не оставляет желание постичь его единосущностную тайну. Он знает об ограниченности любой точки зрения и одновременно хочет ее преодолеть, вероятно, потому что одно дело - декларировать ограниченность человека, а другое - внутренне согласиться с ней» [Фоменко 2002, 35].
И мы ощущаем это перформативное требование о новом взгляде на привычное (а что может быть привычней дома?) в этой перевернутости перспективы: не дом принадлежит нам, и не мы ему, есть лишь некие пересечения в пространстве, где все равно в перспективе - о ставленно сть и отрешенность:
Взгляни на деревянный дом.
Помножь его на жизнь. Помножь на то, что предстоит потом.
Полученное бросит в дрожь иль поразит параличом, оцепенением стропил, бревенчатостью, кирпичом -всем тем, что дымоход скопил <.. .>
Он - твой не потому, что в нем все кажется тебе чужим, но тем, что, поглощен огнем, он не проговорит: бежим.
В нем твой архитектурный вкус. Рассчитанный на прочный быт, он из безадресности, плюс необитаемости сбит [Бродский 2001-2003, IV, 54].
И эта необитаемость, чужеродность считывается буквально во всех стихах, так или иначе посвященных дому, от хрестоматийного «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» до прямолинейного «Всегда остается возможность выйти из дому на.»:
Всегда остается возможность выйти из дому на улицу, чья коричневая длина успокоит твой взгляд подъездами, худобою голых деревьев, бликами луж, ходьбою <.> Улица. Некоторые дома лучше других: больше вещей в витринах; и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, то, во всяком случае, не внутри них [Бродский 2001-2003, IV, 140].
Если задать себе вопрос, что меняется в восприятии читателя, то можно с уверенностью сказать, что в нем не только появляется «отзвук и отклик», по Башляру, у него, говоря языком платоновской метафоры, поворачиваются «глаза души» он видит дом, улицу, привычное пространство из какой-то новой отчуждающей перспективы – и вовлекаясь в эту перспективу не только занимает какую-то новую позицию и открывает новую, более расширенную, версию самого себя, но оказывается готов к восприятию пространства и времени в поэзии Бродского не с точки зрения обывателя, но с абсолютно любой точки зрения:
С точки зрения воздуха, край земли всюду. Что, скашивая облака, совпадает – чем бы не замели следы – с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест, скашивает, что твой серп, поля; сумма мелких слагаемых при перемене мест неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача по щербатой изгороди, пышный куст шиповника сдерживая, но крича жимолостью, не разжимая уст [Бродский 2001–2003, IV, 138].
Разумеется, само направление исследования велит углубить и расширить представления об образе дома на материале большего количества произведений И. Бродского, а затем – рассмотреть другие формы пространства, отражающие некую подвижную архитектоническую систему воззрений поэта на мир, которую он готов разделить с читателем. Проследить особенности перформа-тивности лирики Бродского на материале изучения основных категорий его поэтики с целью уловить и описать особенности суггестивности и преобразующей транссубъектной силы его поэзии – перспективная задача, далеко выходящая, впрочем, за рамки одной статьи. Следует также заметить, что в хоровую поддержку Бродский не верил и отзывался о ней скептически, но верил в преображающую, перформатирующую силу и мощь поэтического голоса, что особенно отчетливо слышно, когда он говорит не о себе, а о других, к примеру, об Осипе Мандельштаме в эссе «Сын цивилизации»: «англоязычному миру только предстоит услышать этот нервный, высокий, чистый голос, исполненный любовью, ужасом, памятью, культурой, верой, – голос, дрожащий, быть может, подобно спичке, горящей на промозглом ветру, но совершенно неугасимый» [Бродский 2001–2003, V, 106]. Возможно, схожая работа в отношении самого поэта все еще предстоит и нам.
Список литературы Перформативные свойства лирики И. Бродского. Дом как образ пространства
- Авербух Э., Прозорова Н. Дом Бродского: путь возвращения // Семь искусств. 2022. № 1. URL: https://litbook.ru/article/16368/?ysclid=m2vfsbugh397425573 (дата обращения: 20.10.2024).
- Башляр Г. Поэтика пространства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. 320 с.
- Бродский И. Сегодня - это вчера // Бродский И. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2011. 784 с.
- Бродский И.А. Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2001-2003.
- Остин Дж. Три способа пролить чернила: философские работы. СПб.: Алетейя, 2006. 335 с.
- Тюпа В.И. Дискурс/жанр. М.: Intrada, 2013. 212 c.
- Фоменко И.В. Три статьи о поэтике. Пушкин. Тютчев. Бродский. Тверь: ТвГУ 2002. 40 с.