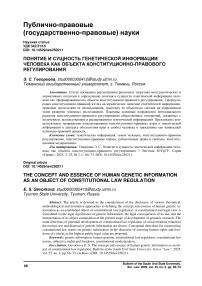Понятие и сущность генетической информации человека как объекта конституционно-правового регулирования
Автор: Геворкова Э.С.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению различных теоретико-методологических и нормативных подходов к определению понятия и сущности генетической информации человека как сформировавшегося объекта конституционно-правового регулирования. Сформулирован конституционно-правовой взгляд на юридическое значение генетической информации, правовые последствия ее использования, трактовку ее объектного состава на современном этапе развития геномных исследований. Показаны основные направления потенциального развития конституционно-правового регулирования общественных отношений, связанных с получением, использованием и распоряжением генетической информацией. Предложены концептуальные направления конструирования конституционно-правовых норм о генетической информации в дискурсе обеспечения прав и свобод человека и гражданина как наивысшей публично-правовой ценности.
Генетическая информация, геном человека, конституционно-правовое регулирование, конституционно-правовые нормы, субъективные права и свободы, конституционная модернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147251182
IDR: 147251182 | УДК: 342.513.5 | DOI: 10.14529/law250211
Текст научной статьи Понятие и сущность генетической информации человека как объекта конституционно-правового регулирования
Эпоха геномных исследований в биологии и медицине, позволившая получать полный геном человека со всей содержащейся в нем генетической информацией, обусловила возникновение целого ряда принципиально новых для юридической доктрины и практики задач и проблем, связанных с необходимостью правильной интерпретации понятия и сущности указанных феноменов с последующим формированием нормативно-правовых конструкций и правоприменительной практики, комплексно отражающих юридические факты, детерминированные генетической диагностикой и терапией.
При этом, как и любые другие, общественно значимые объекты, на базовом уровне генетическая информация нуждается в конституционно-правовой объективации, вокруг которой последовательно создается дальнейшая конструкция межотраслевого законодательного регулирования, находящегося в регулятивной плоскости гражданского, административного, уголовного, медицинского и других отраслей права, как классических, так и комплексных [1, с. 18-29].
Рассматривая понятие генетической информации человека, обратим внимание на безусловную необходимость применения широкого междисциплинарного подхода для выявления и фиксации ее ключевых признаков и характеристик, непосредственно влияющих на определение ее места и роли в конституционно-правовой материи [15].
При этом конституционализация новых общественных отношений, вызванных научно-техническим прогрессом и фактическими достижениями в определенной сфере, должна происходить комплексно, во взаимосвязи и с учетом основ конституционного строя, субъективных прав и свобод, публично-правовых интересов государства и общества. В данном контексте следует согласиться с обоснованным мнением С. А. Васильева, высказанны относительно появления новых субъектов права, о том, что такое появление уже само по себе «порождает его соотношение со всеми остальными субъектами…», и это обстоятельство необходимо учитывать при конструировании конституционно-правового регулирования [4].
Таким образом, если экстраполировать теоретико-методологический подход, предложенный С. А. Васильевым для определения основополагающих принципов моделирова- ния конституционно-правового регулирования новых субъектов, на объекты общественных отношений, можно прийти к аналогичному выводу о моментальном возникновении целого комплекса вертикальных и горизонтальных связей, отображающих внутреннее и внешнее воздействие объекта, подлежащего нормативной конституционализации, на уровень и возможности обеспечения прав и свобод человека, содержание и структуру функций и полномочий органов публичной власти (государственной и муниципальной), распределение компетенции между федеральным уровнем и уровнем субъектов федерации, а возможно, и на некоторые основы государственного и общественного строя.
Иными словами, формирование конституционно-правового регулирования такого инновационного объекта, как генетическая информация человека, предполагает, как представляется, проведение нормопроектной и правотворческой деятельности по таким направлениям, непосредственно задействованным в ходе возникновения, осуществления и прекращения регулируемых общественных отношений: 1) определение места и роли генетической информации в системе объектов обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина; 2) формулирование конституционных полномочий органов публичной власти, связанных с реализацией государственной политики в сфере получения, использования и распоряжения генетической информацией человека; 3) формирование аргументированной доктринальной позиции относительно действий, предметом которых выступает генетическая информация, влияние на общественные и государственные (публичноправовые) интересы с выработкой официальной, закрепленной базовыми конституционноправовыми нормами, позиции государства и общества по поводу допустимых целей, задач, форм, способов и пределов такой деятельности (как первичной по получению генетической информации, так и вторичной, связанной с использованием результатов геномных исследований).
В настоящее время уже не может вызывать сомнений публично-правовой масштаб общественных отношений, связанных с генетикой и геномом человека, поскольку данной сферой затрагиваются и/или могут затрагиваться интересы не только значительного количества частных лиц, но и государства и об- щества в целом, так как неурегулированное и беспорядочное использование генетической информации [5], безусловно, окажет негативное воздействие и на нормальный порядок государственного управления, и, в особенности, на осуществление важнейшей функции современного правового государства по обеспечению и гарантированию конституционных субъективных прав и свобод, декларируемых высшей ценностью и главной публичноправовой задачей.
В этом смысле следует признать справедливым замечание М. С. Матейковича и В. А. Горбунова о том, что «значимость конституционных интересов должна рассматриваться не с точки зрения отдельного гражданина, а с позиции взаимодействия всех членов общества (в том числе органов публичной власти» [10]. О неизбежности разделения конституционных интересов по степени их важности аналогичным образом также высказывались А. В. Малько и В. В. Субочев [9], указывавшие, что для частных лиц, тем не менее, зачастую первоочередными оказываются их частноправовые интересы, что однако совершенно не отменяет и не преуменьшает основополагающий и главенствующий характер конституционных, публично-правовых, интересов для всего государства и общества, в силу чего именно важнейшие интересы становятся конституционными, обладающими высшей юридической силой.
Определение конституционно-правовых основ и конституционная объективация генетической информации как раз и относится к подобным интересам всего общества и государства, имеющим социально значимый характер и коллективную ценность в силу огромного потенциала воздействия на правовой статус неограниченного круга лиц, заложенный во всем возможном спектре общественных отношений, возникающих по поводу исследуемого специфического объекта [2].
В действующем российском законодательстве генетическую информацию можно рассматривать с нескольких методологических и нормативно-отраслевых позиций, что свидетельствует о многообразии и полиобъ-ектности общественных отношений, реально возникающих и потенциально возможных в контексте правовых последствий проведения полной диагностики генома человека [3]. Специфической особенностью такого многообразия является и сочетание как частнопра- вовых, так и публично-правовых интересов при обращении с генетической информацией.
Во-первых, с цивилистической точки зрения генетическая информация может рассматриваться как личное неимущественное (нематериальное) благо и соответствующее указанному благу личное неимущественное субъективное право физического лица. Данный методологический подход основан на положении ст. 128 ГК РФ, который, не упоминая прямо генетическую информацию, устанавливает общую норму о признании нематериальных благ объектами гражданских прав.
В свою очередь, гл. 8 ГК РФ является специальной и раскрывает содержание нематериальных благ, а также механизмы их защиты. В соответствии со ст. 150 ГК РФ, определяющей нормативную конструкцию объектного состава, к нематериальным благам напрямую законодателем отнесены: жизнь; здоровье; достоинство личности; личная неприкосновенность; честь и доброе имя; деловая репутация; неприкосновенность частной жизни; неприкосновенность жилища; личная и семейная тайна; свобода передвижения; свобода места пребывания и жительства; имя гражданина; авторство. Как можно отметить, указанное положение также не содержит понятий и категорий, связанных с генетическими правами и генетической информацией, но в то же время отдельно установлено, что перечень не является исчерпывающим, так как предполагаются и «иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом» [6, с. 88].
Логико-семантический и содержательный междисциплинарный анализ понятия «генетическая информация» дает основания сделать вывод об абсолютной обоснованности ее отнесения к личным нематериальным благам, неотчуждаемым от личности и исключенным из гражданского оборота в силу естественной неотделимости от жизни, здоровья и самоидентификации физического лица, более того, геном человека как раз и отражает в себе индивидуальные характеристики, формирующие самостоятельную личность в биологическом и физиологическом смысле.
Таким образом, генетическую информацию вполне обоснованно считать неотъемлемой составляющей неповторимой личности индивида, которая, более того, как раз и от- ражает личную индивидуальность, то есть иными словами, принадлежит человеку от рождения. Следовательно, если экстраполировать представление о неотделимости и врожденности генетической информации на конституционно-правовую основу, вполне обоснованным представляется методологический подход, позволяющий рассматривать право на обладание и неотчуждаемость генетической информации к личным (основным) правам человека, таким, как право на жизнь, право на уважение чести и достоинства, право на личную неприкосновенность. Кроме того, если проанализировать содержание категорий «генотип» и «геном», то в них включается совокупность всех генетических характеристик человека, именно в таком конкретном сочетании идентичных понятию «личность», что подразумевает фактическую и юридическую невозможность любой передачи этих характеристик другим лицам, поскольку такая передача (отчуждение) гипотетически нивелирует и непосредственно саму личность.
С другой стороны, генетическая информация может пониматься не только как объективно формирующий личность человека набор генетических характеристик, но и в смысле внешней формы выражения данных о геноме человека либо отдельных генетических характеристиках, под которой имеется ввиду классическое определение информации как имеющей способность к распространению совокупности данных, содержание которых физически может понимать и воспринимать неограниченный круг лиц [7, с. 30].
С указанной точки зрения, в конституционно-правовом контексте генетическую информацию необходимо рассматривать в контексте определения и реализации субъективного права на частную жизнь, в свою очередь также являющейся нематериальным благом в формулировке «неприкосновенность частной жизни».
Следует отметить, что ст. 24 Конституции России в общем виде устанавливает соответствующей декларируемому в ст. 23 праву на неприкосновенность личной (частной) жизни запрет на недопустимость сбора, сохранения, применения и распространения данных о личной жизни лица без его однозначного согласия. В то же время в указанной конституционно-правовой норме детально не раскрывается, о каких конкретно данных (видах информации) идет речь в качестве объекта кон- ституционно-правовой охраны. Как представляется, объектный состав нормативной конструкции «данные о личной жизни лица» нуждается в уточнении на конституционно-правовом уровне, и в том числе - исходя из необходимости формирования основ конституционно-правового регулирования генетической информации как новейшего объекта современных общественных отношений.
Раскрытие юридического содержания данных о личной жизни лица в конституционно-правовой норме поспособствовало бы унификации судебной практики и формированию единого законодательного подхода в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов федерации относительно пределов допустимого вмешательства в личную жизнь лица и уяснения конкретных сфер, представляющих собой элементы исключительно частной (личной) жизни.
Более того, в юридической науке генетическая информация также пока еще далеко не всегда воспринимается исследователями в качестве устоявшегося элемента субъективного права на частную жизнь, полноценно признаваемого охраняемого конституционноправовыми нормами. Так, А. Бернар не называет генетическую информацию среди объектов, составляющих частную жизнь человека как объект конституционно-правового регулирования и соответствующего конституционного субъективного права, определяя в числе прочих таких элементов фактические данные о событиях, связанных с телом человека, но детализируя в качестве таковых только медицинские факты терапевтического характера, но не врожденные характеристики личности генетического характера [16, с. 158].
В то же время существующие правовые позиции Конституционного Суда РФ дают возможность сделать вывод о наличии автономии воли самого лица в принятии решения, какие конкретно данные относить к исключительной сфере его частной жизни, естественно, при условии отсутствия противоречия публичным интересам государства, общества, законным интересам других лиц (в перечисленных случаях информация уже априори не может считаться сугубо личной).
В соответствии с определениями Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О, от 26 января 2010 г. № 158-О-О и от 27 мая 2010 г. № 644-О-О в понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если не носит противоправного характера. Иными словами, генетическая информация является элементом частной жизни лица и объективируется в этом качестве конституционно-правовыми нормами при соответствии трем критериям: фактическая и юридическая связь только одному лицу; отсутствие требований обязательного общественного и государственного контроля; правомерный характер осуществления действий по поводу объекта (объективное отсутствие признаков состава правонарушения в действиях лица - носителя информации).
В случае признания и прямой конституционализации подхода к генетической информации как элементу субъективного права на частную жизнь целесообразно выделить некоторые основные юридические последствия реализации подобного дискурса.
Во-первых, генетическая информация в качестве объекта конституционно-правового регулирования права на частную жизнь получает правовой режим данных, изъятых из гражданского оборота, то есть неотчуждаемых и непередаваемых никаким способом, что представляется крайне важным для обеспечения полноценной защиты личных прав, свобод и законных интересов в современных условиях интенсивного прогресса биомедицинских технологий. В частности, исключаются какие-либо договорные отношения, предметом которых выступает генетическая информация о лице, включая куплю-продажу, которая недопустима в плоскости реализации комплекса основных (личных) субъективных прав как публично-правового концепта, составляющего фундаментальную основу конституционно-правового статуса личности.
Во-вторых, непосредственное включение генетической информации в объектный состав данных о личной жизни лица, предусмотренный ст. 24 Конституции РФ, не только формирует основу конституционно-правового регулирования, но и формулирует материально-правовые основания для осуществления правовой охраны общественных отношений, связанных с генетической информацией [8, с. 49].
В-третьих, конституционная объективация генетической информации детерминирует проблему соотношения исследуемого понятия с категорией «персональные данные», применяемой в федеральном законодательстве. В этой связи необходимо обратить внимание на законодательный пробел, который возникает при попытке урегулировать отношения, связанные с генетической информацией, на отраслевом уровне правоприменения. Положениями Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» понятие «геномная информация» (которое вполне справедливо считать синонимом генетической информации, особенно в том широком смысле, в котором указанным понятием оперирует закон) однозначно интерпретируется в качестве персональных данных, из чего логично следует и распространение правового режима защиты персональных данных на генетическую (геномную) информацию. Вместе с тем в специальном Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» понятия «генетическая информация» и «геномная информация» отсутствуют, что, очевидно, понижает законодательный потенциал защиты генетической информации именно в качестве персональных данных, оставляя принятие окончательного решения о применении тех или иных государственных механизмов защиты на усмотрение правоприменительных органов в каждом индивидуальном случае, чему способствует и отсутствие прямой конституционно-правовой объективации категории «генетическая информация» в ст. 23 и 24 Конституции РФ в рамках конституционно-правового регулирования субъективного права на частную жизнь.
В-четвертых, на перспективы конституционализации генетической информации в качестве самостоятельного объекта конституционно-правового регулирования влияет и третий методологический подход, рассматривающий исследуемую категорию в качестве объекта прав интеллектуальной собственности, имея в виду потенциальную возможность патентования гена. Сторонники указанной идеи ссылаются, в частности, на принцип допустимости патентования изобретений в любых сферах без исключения, провозглашенный в ст. 27 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. (далее - ТРИПС) [14], что представляется слишком общим, рамочным подходом для концептуального определения места и роли генетической информации в со- временной правовой системе. Более того, в науке указывается и на ограниченность применения ТРИПС исключительно рамками биообъектов, биоматериалов и биотехнологий, что, по определению К. Эреки, включает «все виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью живых организмов производятся те или иные продукты» [13, с. 9]. При этом необходимо согласиться с мнением Л. А. Новоселовой и М. А. Кольз-дорфа о том, что «наиболее дискуссионными являются вопросы, связанные с патентованием определенных нуклеотидных последовательностей природного гена (генов)» [12, с. 294]. Такая дискуссионность, безусловно, связана со значительной спецификой генетической информации [11, с. 54], требующей особого как конституционно-правового, так и законодательного инструментария, а также специального правового режима осуществления связанных с нею правомерных действий с четким отграничением неправомерных форм пользования и распоряжения генетическими (геномными) данными.
В целом, исследование понятия и сущности генетической информации человека как объекта конституционно-правового регулирования дает возможность сделать следующие важнейшие выводы:
-
а) понятие «генетическая информация» требует конституционализации в качестве неотъемлемого элемента права на частную (личную) жизнь в части формирования конституционного каталога охраняемых объектов, а сама генетическая информация как объект конституционно-правового регулирования должна получить полноценное признание и нормативное закрепление в качестве личного нематериального блага, неотчуждаемого, непередаваемого и пользующегося абсолютной правовой защитой;
-
б) на законодательном уровне генетическая информация должна включаться в объектный состав механизма защиты персональных данных, предусмотренный федеральным законом, что требует внесения дополнений в действующее законодательство;
-
в) генетическая информация в качестве объекта конституционно-правового регулирования, предусматривающего реализацию публично-правовых интересов, должна быть изъята из гражданского оборота и не рассматриваться в качестве объекта вещных прав, поскольку имеет тесную и неразрывную связь с личностью и ее врожденными личными характеристиками, неотъемлемыми от самой личности и ее самоидентификации в окружающей действительности.