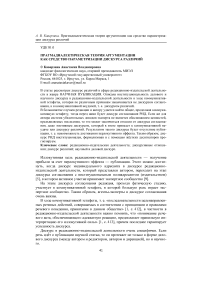Прагмадиалектическая теория аргументации как средство параметризации дискурса различий
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен дискурс различий в сфере редакционно-издательской деятельности в жанре НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. Описана институциональность делового и научного дискурса в редакционно-издательской деятельности в ходе коммуникативной эстафеты, которая по различным причинам заканчивается не дискурсом согласования, а и коммуникативной неудачей, т. е. дискурсом различий.В большинстве случаев редакции и автору удается найти общее, продолжая коммуникативную эстафету, тогда перед нами будет дискурс согласования РИД. Если же для автора система убедительных доводов эксперта не является обоснованием ценностей, предъявляемых последним, то это может закончиться отказом от дискурса согласования, даже эмотивным дискурсом, который в итоге приведет к коммуникативной неудаче или дискурсу различий. Результатом такого дискурса будет отсутствие публикации, т. е. невозможность достижения перлокутивного эффекта. Таким образом, дискурс РИД институционален, формализован и с помощью жёстких десигнаторов прогнозируем.
Редакционно-издательская деятельность, дискурсивные отношения, дискурс различий, научный и деловой дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/148317678
IDR: 148317678 | УДК: 81.0
Текст научной статьи Прагмадиалектическая теория аргументации как средство параметризации дискурса различий
Иллокутивная цель редакционно-издательской деятельности — получение прибыли за счет перлокутивного эффекта — публикации. Этого можно достигнуть, когда дискурс индивидуального адресанта в дискурсе редакционноиздательской деятельности, который представлен автором, переходит на этап дискурса согласования с институциональным полиадресантом (издательством) [5], в котором активное участие принимает экспертное сообщество [9].
На этапе дискурса согласования редакция, проходя фатическую стадию, участвует в коммуникативной эстафете, в которой большую роль играет экспертное сообщество. Таким образом, агенты-эксперты в дискурсе согласования очень важны.
В ходе коммуникативной эстафеты, т. е. «последовательности целенаправленных речевых действий, совершаемых в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе» [1, с. 412], в частности в редакционно-издательской деятельности важно помнить, что «понимание речевого акта, обеспечивающего адекватную реакцию, предполагает правильную интерпретацию его иллокутивной силы» [1, с. 413], причем последнее гарантирует успешность дискурса.
Дискурс в редакционно-издательской деятельности очень специфичен. Если речь идёт о публикации научной статьи, то он протекает не только в форме делового дискурса (между автором и редактором, автором и дирекцией), но и научного.
Деловой дискурс в редакционно-издательской деятельности институционален, поэтому оперативное развёртывание в редакционно-издательской деятельности — при условии соблюдения Принципа Кооперации [6] — устанавливает согласие, на основании которого становится возможным дискурс в редакционноиздательской деятельности, тем самым, вырабатываются ценностные суждения. Значит, протагонист в редакционно-издательской деятельности, обосновывая собственное мнение и оценивая текст статьи антагониста, не может применять ни что иное, кроме аргументации к ценностям [14].
Научный дискурс в редакционно-издательской деятельности может состояться между двумя агентами: автором и экспертом. В связи с тем, что предметом дискурса становится текст именно научной статьи, эксперты должны принимать во внимание такие жёсткие десигнаторы, как осмысленность текста, его актуаль-ность/тематическую востребованность, а также технические качества рукописи, именно они и формируют нормативные условия оценки статьи.
В основе жёстких десигнаторов, которыми руководствуется антагонист (эксперт), лежат ценности, находящиеся в структуре научных теорий: «Формулировки законов иногда используются для выражения возможных и случайных утверждений, иногда для выражения правил, рекомендаций, предписаний, нормативов, соглашений, априорных утверждений…, а иногда формально-аналитических высказываний. Немногие осознают разнообразие способов использования формулировок научных законов в одно и то же время, иногда в одном и том же отчете об эксперименте» [19, p. 98]. Таким образом, с каждой новой теорией увеличивается ценность предыдущей. Следовательно, автор и эксперт должны разделять общепринятые научные теории, привнося новую трактовку какой-либо теории или новые методы, основываясь на уже имеющихся, которые выступают в качестве научной ценности.
В ходе коммуникативной эстафеты протагонист (эксперт) и антагонист (автор) вступают в дискурс в редакционно-издательской деятельности, аргументируя собственное мнение («выражение, фиксирующее отношение человека к этому утверждению» [15, с. 205]), при этом придерживаясь научной точки зрения («утверждения, содержащего определенную пропозицию» [Там же]). Данные инструменты («собственное мнение и точка зрения» [13, с. 144]) необходимы, если мы говорим о научном дискурсе в редакционно-издательской деятельности между экспертом и автором, используя простую или сложную аргументацию, подчинительный или сочинительный дискурс [7].
В ходе дискурса согласования протагонист, в случае невыполнения совокупности требований, предъявляемых к процессу научного рецензирования рукописи экспертом, в соответствии с условием R 3 по сети Петри обосновывает собственное мнение, опираясь на научную точку зрения, выступающую в качестве убедительного аргумента (или абсолютного обоснования) в прагмадиалектиче-ской теории речевой аргументации [7]. В этом случае антагонист (автор) может согласиться с мнением протагониста (эксперта), либо попытаться с помощью сравнительного обоснования и верификации следствий (описательных утверждений) убедить протагониста в правильности мнения антагониста (автора), апеллируя при этом к научной точке зрения, что позволяет сделать возможно новые теоретические обобщения [8; 16].
В научном дискурсе для автора утверждение эксперта иногда не имеет перло-кутивной силы, если автор не намерен вступать в дискурс согласования, либо категорически не согласен с мнением эксперта. Если аргументы протагониста окажутся для антагониста неубедительными [2; 3], то перлокутивный эффект на данном этапе не будет достигнут, что приведет к дискурсу различий.
Коммуникативная эстафета не всегда завершается дискурсом. В некоторых случаях даже на фатической стадии может возникнуть дискурс различий, т. е. «в связи с разным характером действий в процессе понимания текста письма и разным уровнем включенности в воспринимаемый текст, меняется качество его интерпретации» [11, с. 20], что неминуемо приводит к коммуникативной неудаче, т. е. агенты вступают в некорректную аргументацию и допускают ошибки, следствием последних является конфликтный дискурс.
В рамках прагмадиалектической теории аргументации об «аргументативных ошибках» писал в своих трактатах («Первая аналитика», «Риторика») ещё Аристотель, разделяя их на два типа: зависящие от языка и не зависящие от языка. Основоположником теории ошибок аргументации в 1970-е гг. стал Ч. Л. Хэмблин, определяя их как «аргументы, которые кажутся убедительными, но таковыми не являются» [18, p. 12]. Конечно, теория ошибок в аргументации активно развивалась, выдвигались различные критерии разграничения ошибок в теории речевой аргументации.
Например, основатели прагмадиалектической теории стали называть ошибками «любые нарушения ведения критической дискуссии» [7, с. 94]. Американский ученый Г. Кайхен считал, что «нет смысла чрезмерно беспокоиться, какое именно название мы будем использовать для конкретного ошибочного аргумента. Категории аргументативных ошибок не даны нам свыше, они лишь являются полезными инструментами для выявления неправильного рассуждения» [20, p. 237]. Следовательно, до сих пор общепринятого определения ошибок аргументации не было установлено, как и самой структуры их выведения.
Таким образом, одно и то же высказывание может быть признано как оправданным аргументативным приёмом [4], так и ошибочным ходом в зависимости от реакции антагониста. Допустим, если протагонист (автор (примем во внимание такие ценности, как его статус и звание)) не согласен с точкой зрения антагониста (эксперта), то автор может обосновать собственное мнение (условно одно и то же мнение). В ходе данной коммуникативной эстафеты в большинстве случаев кандидат наук уже имеет представление об аргументативных стратегиях в научном дискурсе в редакционно-издательской деятельности, поэтому с большей вероятностью сможет убедить эксперта в правильности аргументов, в отличие от аспиранта, начинающего научную деятельность.
И. В. Хоменко выделяет следующие типы основных логических «ошибок при обосновании аргументов:
-
1) необоснованный аргумент (протагонист использует в качестве аргумента утверждения тот аргумент, истинность или степень правдоподобности которого не установлена);
-
2) чрезмерное обоснование (протагонист приводит дополнительно к основным аргументам еще несколько необоснованных аргументов, т. е. с каждым лишним аргументом ослабляет обоснование);
-
3) круговая аргументация (круг в аргументации, принятие без доказательства. Протагонист обосновывает точку зрения при помощи аргументов, которые, в свою очередь, обосновывает при помощи той же точки зрения)» [15, с. 234–235].
В прагмадиалектической теории аргументации приводится ещё две группы ошибок, но уже в соответствии с правилами, которые были нарушены: «(1) нарушение правил коммуникации и (2) правил ведения критической дискуссии» [10, с. 100] в рамках ведения инстутитуционального дискурса в редакционноиздательской деятельности.
В ходе дискурса различий в редакционно-издательском дискурсе протагонист и антагонист могут использовать любой аргумент, если его приемлют оба агента редакционно-издательского дискурса. В случае убедительности аргумента дискурса различий может перейти в дискурс согласования. В противном случае аргумент будет признан необоснованным [17], что приведет к ситуации коммуникативной неудачи, перлокутивный эффект — ПУБЛИКАЦИЯ — не будет достигнут.
Важно учитывать, что аргументация ходе коммуникативной эстафеты в редакционно-издательском дискурсе имеет свои особенности — анализируемый опосредованный дискурс по электронной почте происходит не в рамках реального времени, т. е. «последствия его речевого воздействия несколько отложены во временном и пространственном отношении» [12, с. 79].
Опосредованный дискурс по электронной почте имеет следующую модель: стимул (текст письма редактора/рецензии эксперта) → пауза → реакция (исправленный текст статьи/текст письма автора). Антагонист, прочитав письмо протагониста и располагая определенным количеством времени, в течение которого ему нужно внести правку в статью, может подобрать более убедительные аргументы для протагониста, продолжая дискурс.
Отвечая на письмо редактора, автор вступает в дискурс сразу с двумя агентами — редактором и экспертом, редактором и дирекцией. В этом случае автору необходимо применять разные аргументы. Например, обращаясь к редактору, автор вынужден будет использовать клише официально-делового стиля, причем в этом же письме, продолжая дискурс с экспертом, аргументировать собственное мнение, употребляя научные термины и понятия. Следовательно, дискурс в редакционно-издательской деятельности использует инструменты (аргументы) и научного, и делового дискурса.
Если же говорить о научной сфере, то в этом случае сделать это более проблематично. В научной сфере эксперт руководствуется общепризнанными научными ценностями, но эти ценности коммуникантами могут пониматься по-разному. Иногда в ходе коммуникативной эстафеты протагонист (эксперт) пытается убедить антагониста (автора) в том, что ценности, используемые им в тексте статьи, не соответствуют заявленному уровню (тип журнала, текст не является осмысленным с точки зрения эксперта и др.), т. е. когнитивные весá склоняются не в пользу автора. В этой ситуации протагонист (эксперт) пытается не просто перейти к дискурсу различий, а продолжает коммуникативную эстафету дискурса согласования, применяя «сравнительное обоснование» [8] своего утверждения, своих требований к ценностям, т. е. даёт возможность антагонисту (автору) продолжить дискурс согласования.
В некоторых случаях для антагониста (автора) система убедительных доводов протагониста (эксперта) не является обоснованием ценностей, предъявляемых последним. Следовательно, антагонист (автор) отказывается от публикации, настаивая на своей точке зрения, он не намерен продолжать коммуникативную эстафету, вступая в дискурс с протагонистом (экспертом).
Необходимо учитывать и то, что дискурс со стороны эксперта — властный дискурс, в ходе которого, если возникает разногласие по какому-либо вопросу, задачей антагониста (автора) становится убедить эксперта в правильности собственной точки зрения или согласиться с точкой зрения эксперта. Например, эксперт, читая новую научную статью, может иметь противоположную точку зрения на эту проблему, в отличие от автора. Это, скорее всего, станет предметом дискурса, который может привести как дискурс согласования, так и к дискурсу различий. Последнее случится, если автор не сможет в рамках научного дискурса, прибегая к цитированию первоисточников, убедить в правильности собственной точки зрения. Только в этом случае научный дискурс в рамках дискурса редакционно-издательской деятельности будет успешен и сможет привести к дискурсу согласования. Конечно, если автор не сможет убедить эксперта, то будет получен отрицательный результат, который приведет от дискурса согласования к дискурсу различий. Таким образом, конфликтный дискурс — принципиальная неудача агентов.
Список литературы Прагмадиалектическая теория аргументации как средство параметризации дискурса различий
- Арутюнова, Н. Д. Речевой акт//Лингвистический энциклопед. словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990а. С. 412-413.
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.
- Бардина Н. Е. Аксиологические стратегии аргументативного дискурса современного английского языка: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2004. 180 с.
- Викулова Л. Г. Издательский дискурс в системе общения «Автор -издатель -читатель»//Вестник ИГЛУ. Сер.: Филология. 2012. №2ю (18). С. 63-69.