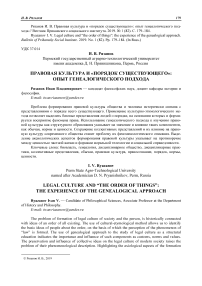Правовая культура и «порядок существующего»: опыт генеалогического подхода
Автор: Рязанов И. В.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (82), 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема формирования правовой культуры общества и человека исторически связана с представлениями о порядке всего существующего. Применение культурно-этимологического метода позволяет выделить базовые представления людей о порядке, на основании которых и формируется восприятие феномена права. Использование генеалогического подхода к изучению правовой культуры как структурного образования указывает на значение и влияние таких компонентов, как обычаи, нормы и ценности. Сохранение коллективных представлений и их влияние на правовую культуру современного общества ставит проблему их феноменологического описания. Выделение аксиологических аспектов формирования правовой культуры указывает на противоречие между ценностью частной жизни и формами моральной телеологии и социальной справедливости.
Биовласть, генеалогия, дисциплинарное общество, дисциплинарные практики, коллективные представления, обычаи, правовая культура, правосознание, порядок, нормы, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14126577
IDR: 14126577 | УДК: 37.014
Текст научной статьи Правовая культура и «порядок существующего»: опыт генеалогического подхода
-
I. V. Ryazanov
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov, Perm, Russia
LEGAL CULTURE AND “THE ORDER OF THINGS”:THE EXPERIENCE OF THE GENEALOGICAL APPROACH
Ryazanov Ivan V. — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of History and Philosophy.
Право состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свободной воли. Тем самым право есть вообще свобода как идея.
Г. В. Ф. Гегель. Философия права
Правовая культура как объект научного анализа затрагивает междисциплинарные аспекты социально-гуманитарного знания, которые важно рассмотреть в генеалогическом ракурсе. Прежде всего категория правовой культуры привлекает внимание ученых-юристов, которые рассматривают различные подходы к ее пониманию, структуре и пр. Поскольку структура правосознания общества в своих главных чертах определяется некоторой суммой базовых представлений, которые основываются в том числе на нормах морали, конституирующих право, возникает «аксиологическая» ситуация, когда сами базовые понятия нуждаются в критике правового разума, столь естественного для носителя этих ценностей. Вспоминается классик иррациональной мысли Ф. Ницше, который в «Генеалогии морали» высказал суждение, что необходима «критика моральных ценностей, сама ценность этих ценностей должна быть поставлена под вопрос» [7, c. 412].
Аксиологические аспекты, связанные с формированием правовой культуры, вытекают из вопроса о генеалогии субъекта правовой культуры, из представлений субъекта правовой культуры о праве и культуре, из логики развития той культуры, в границах которой и формируются представления конкретного субъекта. Как правило, правосознание субъекта правовой культуры вытекает из его исторически обусловленного представления о «порядке существующего».
По мнению крупнейшего лингвиста XX в. Э. Бенвениста, представления о порядке формируются в обществе «на ранних стадиях исторического развития», а понятие права вытекает из представлений о порядке, как исходное представление для обоснования картины мира. Порядок — это «религиозная и нравственная основа всего общества» [1, c. 299], а поскольку правовое сознание, как и религиозное или нравственное, обусловлено картиной мира, то «всё, что касается человека и мира, находится во власти “порядка” как основы общества». Этимологические примеры, связанные с латинским ius (которое часто переводится как ‘право’), по мнению Э. Бенвениста, имели произвольную глагольную форму iurare , указывающую на процедуру клятвы и присяги. Все семантические коннотации, выделенные классиком лингвистики, сводятся к обоснованию положения о том, что право как ius обозначало «формулу нормального состояния». Поэтому значение ius как выражение сущности права во многом определяло и терминологию юридической деятельности. Например, наряду с ius глагол dicere повлиял на такие юридические формулы, как multam (dicere) — штраф, или diem (dicere) — день судебного заседания и пр. Право в античном обществе было моделью нормирующей деятельности, отделенной от божественного права. Само выражение ius iurandum указывало на природу деяния и на торжественный характер манеры изложения, в силу чего «право — это то, что должно быть показано, сказано, изречено. Можно оценить, таким образом, величайшие изменения в языке и социальных институтах…, когда право, перешагнув через технический набор формул, облекается в моральные категории, когда ius и iustus достигают понятия iustitia » [1, c. 318].
Таким образом, обширный культурно-лингвистический анализ представления о понятии «право» позволил Э. Бенвенисту утверждать, что это понятие отождествляется с представлениями о справедливости. Это отчетливо прослеживается на примере европей- ских языков, представление о праве преобразуется уже и в романских языках, ius вытесняется directum (derectum) — «прямой». Французское droit («право») — это то же, что и «прямой», и «правдивый», в отличие от «испорченный и извращенный». В немецком языке Recht в обозначении права занимает место ius, а в английском языке «прямой» отождествляется с законом (Law), на что указывает используемый в этом языке оборот «изучать законы» вместо «изучать право».
Процесс исторического развития от ius к iusticia , как и процесс разграничения iustitia и directum , по мнению Э. Бенвениста, «незримыми нитями, которые трудно ухватить, связан с самим характером восприятия права в сознании. Лишь исследуя словарь социальных понятий, можно распознать, как эта формульная лексика развивается и уточняется» [1, c. 319]. Культурная эволюция сознания порождает в человеческом обществе моральноценностные представления, с которыми субъекты этой культуры отождествляют свои представления о праве.
В конструкции «правовая культура» мы встречаемся с еще одним латинским термином — «культура». Обозначим и его семантические и смысловые коннотации. Термин «культура», как и термин «право», очень широко используется в практическом и научном обиходе, и часто в разных теоретических системах служит для обозначения крайне сложных понятий. В европейских языках латинское cultura , связанное с colere , имело множество значений, которые иногда перекрывали друг друга в своих смысловых значениях. Например, в английском языке слово culture первоначально имело смысл «развивать» с оттенком «служения» и «почитания», во французском оно преобразовалось в couture и приобрело самостоятельное значение. Во всех случаях употребления culture оно, как правило, служило для обозначения процесса выращивания растений или животных. Аграрное наполнение culture в европейском обществе фиксируется до эпохи Нового Времени; английский мыслитель Ф. Бэкон в своих сочинениях будет использовать такой оборот, как «культура и удобрение умов». Отнесение culture к духовной жизни человека или использование этого слова для характеристики отдельных социальных процессов будет применяться лишь с рубежа XVIII–XIX вв. В современных европейских языках выделяются, если не брать естественно-научную терминологию, четыре основных ее смысла. Во-первых, обозначение процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития. Во-вторых, как продукты и формы интеллектуальной и художественной деятельности. В-третьих, как характеристика способа существования или образа жизни человека или социальной группы в определенный период истории. И, наконец, указание на состояние общества, основанного на праве, порядке.
В качестве структурного образования правовая культура, как правило, содержит в себе все элементы духовной жизни человека. Подобное представление восходит к эпохе Просвещения и получает в ней теоретическое обоснование. Один из ярких представителей эпохи Просвещения Ш. Л. Монтескье в трактате «О духе законов» постулировал: «Я начал с изучения людей и увидел, что всё разнообразие их законов и нравов не вызвано единственно произволом их фантазии. Я установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами собой подчиняются им, что история каждого народа вытекает из них как следствие, и всякий частный закон связан с другим законом или зависит от другого более общего» [6]. Этим общим началом станет «дух народа», связанный у французского мыслителя с климатом, религиозными представлениями, с господствующими нравами и обычаями. Как представитель механистического деизма, Ш. Л. Монтескье считал, что необходимо учитывать различие между нравами и обычаями и законами. При этом «нравы и обычаи суть порядки, не установленные законами; законы или не могут, или не хотят установить их. Между законами и нравами есть то различие, что законы определяют преимущественно действия граж- данина, а нравы — действия человека. Между нравами и обычаями есть то различие, что первые регулируют внутреннее, а вторые внешнее поведение человека» [6].
Выделение обычаев в духовной жизни человека и общества может существенно коррелировать и уровень правовой культуры при условии, что те или иные обычаи сохраняют силу массовой (социальной) привычки людей, живущих в этом типе культуры и в этом обществе. Как правило, они не получают рационального объяснения и часто не осознаются людьми. Существенное влияние на правовую культуру оказывают уклад жизни людей, семейное воспитание, традиционные приемы поведения. На этом уровне доминируют «коллективные представления» и нерефлексивное следование традиции. В качестве основного механизма социальной регуляции обычаи были характерны для архаического общества, на это обстоятельство указывает Л. Леви-Брюль — французский этнолог и философ. Обращаясь к проблеме коллективных представлений как мыслительной структуры, он отмечал, что «коллективные представления имеют свои собственные законы <…>, изучение коллективных представлений, их связей и сочетаний сможет, несомненно, пролить свет не генезис наших категорий и наших логических принципов» [5, c. 9]. Сохранение коллективных представлений как мыслительной структуры часто оценивается как негативная и рудиментарная составляющая культуры. Тем не менее на современной ступени общественного развития они выполняют функцию приобщения человека к культуре. Существование культурно-феноменологического языка описания этих представлений — в современном российском обществе вопрос дискуссионный. С точки зрения компаративной онтологии интерес представляет мнение С. В. Комарова, обосновавшего базовые структуры «русского здесь-бытия» как онтологической амбивалентности, лежащей за границами западной, в том числе и правовой, культуры [4].
Структурным компонентом духовной жизни общества являются также нормы. Как правило, нормы формируют в обществе ожидаемое поведение человека, понятное окружающим людям. Нормы права как механизм социальной регуляции определяют и меру вариативности поведения людей в обществе. В гуманитарной науке XX в. вопрос о том, как формируются в европейской культуре представления о норме, связывают с творчеством французского историка и философа М. Фуко. В генеалогический период своего творчества он осуществил многогранное исследование представлений о норме как о биологическом, психологическом, моральном и политическом феномене [11]. В центре проекта, получившего название «История наказания», находится социальный механизм нормализации человека. С точки зрения его автора, современное западное общество посредством дисциплинарных практик «нормализует» индивида. Именно через дисциплинарную власть осуществляется индивидуализация человека, она осуществляется как соотносительность действий и успехов — контроль над деятельностью. Дисциплинарная власть отличает индивидов друг от друга и с точки зрения социальной полезности. Для нее свойственно выстраивание иерархического порядка («каждому индивиду — свое место, каждому месту — свой индивид»). Она определяет границу нормального — ненормального.
В современном западном обществе индивидуализация является нисходящей, человек индивидуализируется тем больше, чем больше осуществляется власть над ним. Принцип индивидуализации выражен следующим отношением: «Ребенок индивидуализируется больше, чем взрослый, больной — больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник — больше, чем нормальный и законопослушный» [10, c. 283].
Дисциплинарные практики начиная с XIX в. сформировали в европейской культуре комплекс знаний об индивидуальности, в котором исторически складывается и представление о различии нормального — ненормального. Еще один пример из творчества М. Фуко мы приведем для иллюстрации положения, в соответствии с которым логика развития культуры (картина мира) указывает и на границы, в которых формируются представления субъекта правовой культуры.
Эпоха средневековой Европы, по мысли французского историка и философа, — это эпоха, когда правосудие лишает людей права и возможности разрешать собственные тяжбы. Люди теперь подчиняются внешней по отношению к ним власти — политической и судебной. В Европе XII в. появляется новое действующее лицо, не имевшее прецедента в римском праве. В судебной системе этой эпохи появляется такая фигура, как прокурор, являющийся представителем власти (короля). Если совершается преступление и нарушены законы в судебном споре между двумя индивидами, прокурор выступает как представитель власти, ущемленной самим фактом нарушения законов и преступления. Прокурор — это «двойник» жертвы, он будет тем, кто стоит за потерпевшим. Судебная практика средневековой Европы осуществляется исходя из положения: «Если верно то, что этот человек ущемил права другого, я как представитель суверена (короля) могу подтвердить, что суверен, его власть, установленный им порядок, утвержденный закон также были ущемлены этим человеком. Следовательно, я также выступаю против него» [9]. В судебной практике средневековой Европы возникает новое представление-понятие — правонарушение. Пока судебное отношение касалось жертвы преступления и обвиняемого не существовало, условий для появления данного представления-понятия тоже не было. Вопрос стоял лишь о том, кто нанес ущерб и кто прав. С того момента, когда прокурор начинает использовать положение: «Я также выступаю против него», в обществе и в культуре возникает новое представление: древнее понятие «ущерб» замещается понятием «правонарушение».
Правонарушение — это не только ущерб, нанесенный одним человеком другому человеку, но и «ущемление индивидом существующего строя, государства, закона, общества». Суждение М. Фуко напрямую связано с логикой развития средневековой культуры, в силу чего «правонарушение представляется одним из великих изобретений средневековой мысли. Здесь мы видим, как государственная власть полностью «забирает» себе судебные процедуры, весь механизм прекращения тяжбы между индивидами раннего Средневековья» [9, c. 90].
Раскрывая генеалогическую структуру правонарушения, М. Фуко особенно подчеркивает возмещение ущерба признанным виновным человеком, теперь оно существенно отличается от возмещения в древнем феодальном праве или древнегерманском праве. От признанного виновным человека теперь требуется «не только возмещение ущерба другому индивиду, но еще и возмещение оскорбления, нанесенного суверену, государству и закону. Таким образом, возникает механизм уплаты штрафов, грандиозный механизм конфискаций. Западные монархии были основаны на присвоении правосудия, позволившего им запустить механизм конфискации» [9, c. 90].
Социальный механизм нормализации не только связан с линией разграничения между законопослушными субъектами и правонарушителями, он контролирует процессы жизни и становится в современном обществе, по мнению М. Фуко, «биовластью» [8]. В качестве новой формы власти этот механизм управляет, распределяя людей относительно норм. В своих политических статьях французский философ утверждал, что поскольку власть оперирует нормой, то стратегическая борьба с такой формой власти должна разворачиваться на всех уровнях механизма ее регулирования. Право на жизнь, на здоровье и счастье становится лозунгом оппозиционных движений, направленных против нового типа власти.
В структуре правовой культуры выделяют и ценности в качестве компонента духовной жизни общества. Восходящая к античной философии, проблема модальности системы ценностей выражена в диалоге древнегреческого философа Платона «Филеб» знамениты- ми вопросами Сократа «Что есть благо?» и «Как благо соотносится в человеческой жизни с удовольствием?». В границах теории ценностей данные вопросы имеют статус фундаментальных для аксиологии. Крупнейший представитель западной философии XX в. Х.-Г. Гадамер в сочинении «Диалектическая этика Платона», используя метод феноменологической интерпретации, обращался к проблеме Блага у Платона. Он отмечал, что «идея блага вообще больше не является сущим, а представляет собой последний онтологический принцип» [2, c. 93]. Этот принцип «делает доступным для понимания всё то, что существует в его бытии. Лишь в этой всеобщей онтологической функции идея блага является последней основой всякого взаимопонимания» [2, c. 93]. Поэтому идея права получает в европейской философии онтологическое обоснование в качестве «наличного бытия» свободы человека и общества.
В современном российском обществе в ситуации значительной дифференциации систем ценностей аксиологические аспекты правовой культуры связаны, с одной стороны, с «взрывом индивидуализма» и повышением ценности приватной жизни. C другой стороны, они существуют как формы моральной телеологии и указывают на идею социального блага. Об этом свидетельствует как кризис либеральной — неолиберальной идеологии, так и та социальная почва, на которой вырастает правосознание субъекта гражданского общества. Крупнейший отечественный мыслитель И. А. Ильин сравнивал такую ситуацию с дыханием: «Правосознание есть как бы легкое, которым каждый из нас вдыхает и выдыхает атмосферу взаимного общения <…>,это живой орган правопорядка и политической жиз-ни»[3, c. 251]. Различие формального и живого в аксиологическом аспекте и составляет основную проблему — как субъекта правовой культуры, так и общества, в котором «народ безмолвствует».
Правовая культура, таким образом, посредством своих базовых компонентов, как правило, выражает не всегда осознаваемые субъектами этой культуры представления о «порядке существующего».
Список литературы Правовая культура и «порядок существующего»: опыт генеалогического подхода
- Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Москва : ПрогрессУниверс, 1995. 456 с.
- Гадамер Г. Г. Диалектическая этика Платона (феноменологическая интерпретация «Филеба»). Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. 256 с.
- Ильин И. А. Путь к очевидности. Москва : Республика, 1993. 431 с.
- Комаров С. В. «Патология» русского бытия, или русская глупость. Маленькое эссе о глупости // Вестник Пермского университета. Философия. Психология .Социология. 2014. № 2 (18). С. 49–59.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва : ПедагогикаПресс, 1994. 608 c.
- Монтескье Ш. О духе законов [Электронный ресурс] / Электронная библиотека «Гражданское общество в России. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Monteskye_O%20dukhe.pdf (дата обращения: 24.02.2019).
- Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т 2. Москва : Мысль, 1996. 829 c.
- Фуко М. Безопасность, территория, население : Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. Санкт-Петербург : Наука, 2011. 544 с.
- Фуко М. Истина и правовые установления // Фуко М. Интеллектуалы и власть : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. Москва : Праксис, 2005. 320 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва, 1999. 479 с.
- Фуко М. Ненормальные : Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году. Санкт-Петербург : Наука, 2004. 432 с.