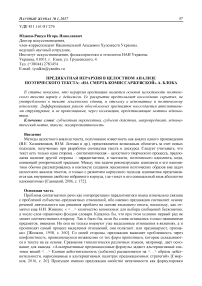Предикатная иерархия в целостном анализе поэтического текста: "На смерть Комиссаржевской" А. Блока
Автор: Юдкин-Рипун Игорь Николаевич
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Текстологические исследования
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что иерархия предикации является основой целостности поэтического текста наряду с дейксисом. Ее раскрытие предполагает воссоздание скрытых, не употребленных в тексте лексических единиц, и отсылку к идиоматике и поэтическому идиолекту. Дифференциация рангов обособленных предикатов воссоздается аппозитивными структурами, а не пропозициями, через коллокации, представляющие мотивы идиоматики.
Субъектная перспектива, субъект действия, идиоматический мотив, таксис
Короткий адрес: https://sciup.org/147229748
IDR: 147229748 | УДК: 811.161-81''276
Текст научной статьи Предикатная иерархия в целостном анализе поэтического текста: "На смерть Комиссаржевской" А. Блока
Методы целостного анализа текста, получившие известность как анализ одного произведения (В.Е. Холшевников, Ю.М. Лотман и др.), представляется возможным обогатить за счет новых подходов, полученных при разработке синтаксиса текста и дискурса. Следует учитывать, что текст есть только одна сторона - синтагматическая - целостного творческого процесса, предполагая наличие другой стороны - парадигматики, в частности, поэтического идиолекта, кода, конвенций риторической традиции. Между тем задачи реконструкции идиолекта и его идиоматики обычно рассматривались в контексте создания лексиконов поэтических образов вне задач целостного анализа текстов, и только с развитием корпусного подхода идиоматика представляется как внутреннее свойство избранного корпуса, где «текст и его специальный язык абсолютно идиоматичны» [Савицкий, 2006, с. 172].
Основная часть
Проблема синтагматики речи как интерпретации парадигматики языка изначально связана с проблемой субъектно-предикатных отношений, ибо именно предикация составляет основу речевой деятельности как решения проблем на основе языкового опыта, поскольку, как отметил еще Н.И. Жинкин, « <...> количество возможных для выбора сообщений бесконечно, а число слов ограничено фондом словаря. Казалось бы, что при этом условии первый ряд не может соответствовать второму. Так и было бы, если бы слова оставались только названиями предметов, именами. Но они не только именуют уже выделенные отношения в явлениях, а и производят самый процесс выделения отношений, они полагают, или предицируют, признаки» [Жинкин, 1958, с. 360]. Со своей стороны, предикация выявляет проблемность через конфликтность, проявляющуюся независимо от тех форм пропозиции, которые складываются в тексте на ее основе. Сравнение типологически различных языков, например, дает основание для вывода: «Альтернативные предикационные формулы задают альтернативные системы вещей <...> Единая действительность (событие) расщепляется на <...> образы действительности, нарисованные в альтернативных палитрах предикационных стратегий» [Смирнов, 2016, с. 20]. Присущее именно предикации свойство негативности как формулировки исследовательских альтернатив, решаемых в построении текста, определяет строение макроскопического синтаксиса текста как развертывания конфликтов. В частности, драматический текст наиболее явно представляет развертывание конфликта через кульминации к катастрофе (или «триумфу»), В свою очередь, в конечном счете, предикация предполагает субъектную сторону, поскольку «... бытие, сущее - всегда субъект, никогда не предикат. Но каждое это сущее имеет ту или иную сущность», так что «сущности, понятийные определения - это предикаты» [Рубинштейн, 1976, с. 309], откуда следует «приоритет существования перед понятийным определением сущности» [Рубинштейн, 1976, с. 310]. Если для парадигматики сущее исходно, то в синтагматике, обращающейся к проблематичным сторонам бытия, это отношение переворачивается, обусловливая определяющее место предикации.
Эти предварительные замечания позволяют отобрать ряд обобщений в синтаксисе текста, необходимых для понимания его целостности. Такова концепция субъектной перспективы как обобщение понятия диатезы, открывающее возможность взаимного обмена не только действительных и страдательных, но и коммуникативных и денотативных ролей как субъектов действия. Семантический субъект как «онтологически или метафорически замещающий позицию субъекта, либо определенная точка зрения, либо как среда субъекта, восстановимая из контекста» [Червонный, 2914, с. 99] фактически описывает ту возможность, которая реализовалась в аллегорической драме мистериального театра Средневековья. Например, когда представляется описание пейзажа, то сам пейзаж может рассматриваться как субъект действия, а авторская речь - как его несобственно-прямая или косвенная речь. Так, в строках А.А. Блока «В небе - день, всех ночей суеверней / Сам не знает, он - ночь или день» (10.1912 г.) свидетельство наблюдателя предстает как косвенная речь Дня - участника действия. Тогда проблема локации текста (авторизации, адресации, ракурсов наблюдения) входит в выстраивание субъектной перспективы, определяемой предикацией: «Субъект - предицируемый компонент. ... Соотнесение субъекта сообщаемого факта (диктум) и субъекта факта сообщения (модус) ... позволяют выстроить субъектную перспективу высказывания» [Золотова и др., 1973, с. 231].
В свою очередь, в масштабе цельного текста выделяется полипредикативность и полупредикативность как обобщение понятия таксиса: «Обычно понятие полупредикативности связывается с "обособленными оборотами", ... Простое предложение, включающее в свой состав такие обороты, становится полипредикативным» [Золотова, 1995, с. 100]. Эта связь предикатов становится особенно сильным фактором целостности текста: «Нефинитные предикации, лишенные типичных глагольных признаков, ... в особенности деепричастные, предикации более тесно связаны со своими главными предикациями, чем две сочиненные финитные предикации между собой» [Кибрик, 2003, с. 90]. Заметим, что дейксис, связующий текст в неделимое единство, предстает как предел отвлеченности (смысловые исходы Н. Ю. Шведовой), достигаемый с развитием предикации (например, местоглаголия как аналоги местоимений). Со своей стороны, цельность текста с необходимостью предполагает отвлеченность содержания, отмеченную еще И. А. Фигуровским, указывавшим на «особенность соединения законченных предложений: объединение не только общностью темы и замкнутостью содержания, но вдобавок общим для всего отношения отвлеченным отношением» [Фигуровский, 1961, с. 31]; в подтверждение приводится мысленный эксперимент с заменой точки перед «Но», открывающим цельный отрезок текста, на запятую («Мать» М. Горького) - тогда смысл противопоставления сужается. В таком случае возникает вопрос о том, насколько абстрактно общее содержание текста, и как конкретика богатства этого содержания соотносится с отвлеченностью.
В теории дискурса предложено понятие макропредикат как обозначение общего отвлеченного содержания текста, его характеристики абстрактным признаком: «Для интерпретации предиката последующего предложения стратегия устанавливает возможность его включения в более общий предикат, предварительно выведенный из предиката предшествующего предложения, ... два предиката вместе могут дать достаточно информации для вывода мак- ропредиката» [ван Дейк, 2000, с. 64-65] (например, из предложений <Сегодня был жаркий день. Они давно не были на пляже> выводится предикат решения идти на пляж). Обычно такие неявные предикаты, подразумеваемые, но не упоминаемые в тексте, рассматриваются как гипернимы [Гусаренко, Породеева, 2013], однако фактически речь идет об импликации. В частности, восполнение имеющегося ряда предикатов основывается на том, что они обычно составляют партонимы, то есть частичные синонимы, описывающие ситуацию. В парто-нимии синтагматическая сочетаемость одновременно предполагает парадигматическую совместимость. Например, таково описание места у А.А. Блока (12.1912 г.): В сыром ночном тумане /Все лес, да лес, да лес ... /В глухом сыром бурьяне /Огонь блеснул - исчез .... Здесь ряд атрибутов туман - лес - *блуждающий огонек определяет семантическое поле сказочного образа зачарованного места и влечет за собой ожидаемый компонент - избушку, появляющуюся через 8 строк (И вижу: в свете красном / Изба в бурьян вросла). Очевидно, что для нахождения неявного (не упоминаемого, но подразумеваемого) предиката требуется обращение к идиолекту, из которого строится поэтическая речь, так что невозможно ограничиться данными текста.
Из самого представления синтагматики текста как продукта интерпретации парадигматики (идиолекта) следует значимость творческой истории произведения от замысла к воплощению, в частности, изучения черновиков, для понимания формирования общего смысла. Накоплен довольно широкий опыт текстологического исследования писательских черновиков, где почетное место занимает изучение рукописей А С. Пушкина в связи с подготовкой академического издания. Заметим, что еще на заре текстологических исследований В.В. Розанов, опираясь на материалы исследователя гоголевского творчества Н С. Тихомирова, отметил следующие характерные черты первичной формулировки замысла, состоящие в том, «что сущность художественной рисовки у Гоголя заключается в подборе к одной избранной, как бы тематической черте создаваемого образа других все подобных же, ее только продолжающих и усиливающих черт». Иными словами, подбираются отвлеченные признаки, то есть выстраивается цепочка предикатов, причем «первым движением воображения он стремится захватить в картину возможно большее число предметов; позднее ненужные из них отбрасываются ...» [Розанов, 1894 (1990), с. 240], так что субъекты определяются предикацией.
Итак, целостность текста обеспечивается не только дейктическими средствами связности, но и предикацией отвлеченных признаков, в том числе отсылающих к парадигматике языка и не упоминаемых в речи. Выстраивание целостного текста, как уже отмечалось [Юдкин, 2016], особенно наглядно в лирике с ее, по И И. Ковтуновой, тотальной предикацией. Образование иерархии предикатов лирического текста является следствием их расслоения, стратификации по рангам: «Синтаксически рему первого предложения можно рассматривать как предикат первого ранга, общий для всего текста, а члены перечислительного ряда подлежащих - как предикаты низших рангов, но семантически выдвинутые» [Ковтунова, 1986, с. 155]. Происходит превращения ремы (актуального предиката) в тему (субъекта) по мере развертывания текста, когда «сочетание двух сообщений в одном простом предложении по типу тема (новая) - рема» создает ситуацию, при которой «новое сообщение о наличии определенных предметов... часто вводится в повествование не в виде отдельного предложения, но присутствует в сжатом виде в предложении, содержащем другое сообщение» [Ковтунова, 1979, 268]. Например, у А.А. Блока каждый перечисляемый признак становится обозначением субъекта для дальнейшей предикации: <.<Еще не явлен лик чудесный, /Но я провижу лик -зарю, /Ив очи молнии небесной / с чудесным трепетом смотрюХ» (Когда я создавал героя ..., 03.10.1907). Здесь первая рема - лик как предмет явления становится субъектом для атрибуции зарей, которая обращается в тему для новой ремы - молнии, и все в целом вызывает макропредикат - трепет, где, в свою очередь, подразумевается предикат *творчество, который восстанавливается из поэтического идиолекта.
Продемонстрируем сказанное об иерархии предикатов на примере реквиема, созданного А.А. Блоком в честь В.Ф. Комиссаржевской. Стихотворение удобно для анализа, в частности, тем, что фактическим авторским комментарием для него служит некролог, к которому оно первоначально было добавлено. Сохранились и опубликованы его наброски. Отчетлива макроскопическая синтаксическая структура, включающая три эпизода. Первый эпизод (4 строфы) дает картину жизни актрисы как подобие Откровения или Явления высших сил людям: «(1) Пришла порою полуночной / На крайний полюс, в мертвый край. / Не верили. Не ждали . Точно /Не таял снег, не веял май. // (5) Не верили . А голос юный /Нам пел и плакал о весне, / Как будто ветер тронул струны / Там, в незнакомой вышине. // (9) Как будто отступили зимы, / И буря твердь разорвала, / И струнно плачут серафимы, / Над миром расплескав крыла ... // (13) Но было тихо в нашем склепе, / И полюс - в хладном серебре. / Ушла . От всех великолепий - / Вот только: крылья на заре» (здесь и далее подчеркнуто мной -И. Ю. - Р ). О том, что само погребение актрисы было отмечено знамением, упоминается в некрологе: «<...> над ее могилой открылось весеннее небо, когда гроб опускали в землю». Знамением, явленным людям, представляется и житие актрисы.
Описание насыщено фигурами ситуативных синонимов - гендиадес: прийти - уйти, полночь - полюс, верить - ждать, таять - веять, петь - плакать, склеп - серебро. Из них предикаты ушла - пришла, обрамляющие эпизод, выполняют дейктическую функцию и предстают как местоглаголия. Иерархия строится тем, что предикаты низших рангов становятся субъектами для предикатов высших рангов. Такое превращение демонстрирует уже «не верили», подразумевающее неопределенно-личный субъект (*люди), но в перспективе дальнейшего повествования этот предикат предстает как тема (*не верившие) по отношению к вводимым далее сравнениями ремам. Предикат НЕВЕРИЕ адресуется к самому имени актрисы (Вера) и означает неприятие, отторжение ее. Тем самым определяются носители этого признака как субъект действия. Предикат нежданности углубляет это отрицание и предполагает истолкование как отрицание предиката *НАДЕЖДА Отсутствующий в черновике, но включенный в окончательную версию предикат «не ждали» предполагает идиоматический мотив «нежданный гость». Тогда допустима импликация макропредиката - отрицание * ЛЮБВИ. Именно как вестница любви предстает почившая актриса.
Сравнение с черновиком свидетельствует, что первоначально намеченные мотивы переводятся в отрицательную, негативную форму или в вопросительный, проблематичный план. Очень показательно преобразование уже начальных строк черновика. «И мы ... мы любили / Был праздник, буря и гроза /Когда над нами восходили /Ее звездистые глаза». Упоминаемая тут любовь подтверждает приведенную импликацию ее отрицания, а высказывание о глазах полностью перечеркивается далее, в срединном эпизоде (20). Фрагмент «И вечно юных ...» преобразуется в эпитет (5). Предикация делается неявной: мотив грозы, в частности, только подразумевается как возможное дополнение к буре (10), отверзающей небеса.
Исходным субъектом, определяющим тематическую данность эпизода, следует считать Полюс, что подчеркнуто аллитерацией (1), образующей внутреннюю рифму П(О)Р / ПОЛ. О полюсе и путешествии туда говорится в стихотворении «Все на земле умрет» (07.09.1909) с явной аллюзией на мотив Снежной королевы: «Бери свой челн, плыви на дальний полюс / В стенах из льда - и тихо забывай, / Как там любили . ..». Говоря о видении актрисы, поэт в некрологе вспомнил именно этот мотив: «В.Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше <...>, потому что в ее глазах был кусочек волшебного зеркала, каку мальчика Кая в сказке Андерсена». Именно полюсу, обиталищу тех, кто не верит и не ждет, противопоставляется рема жития, вводимая противительным «а» и развиваемая сравнениями.
Обращает внимание виртуальность вводимых сравнений («как будто»), так что действие переносится в план воображения. Житие актрисы предстает не только в каноне Знамения, но и в визионерском плане - как Видение. Это видение предваряет предикация Весны - таяние воды и веяние ветра (4), имплицируя макропредикат *НЕГА. Сам образ актрисы представляется вначале атрибутом голоса через ремы плач и пение (6), образуя макропредикат *ЖАЛЬ.
Получается «плач о весне не верившим», становящийся темой для новой ремы - подразумеваемого сравнения с эоловой арфой (7). Здесь вводится идиоматическое обозначение того, о чем говорится в некрологе: «В.Ф. Комиссаржевская голосом своим вторила мировому оркестру». Этот мотив «музыки сфер» развивается далее в мотиве ангельском пении (И). Примечательно, что для этого мотива потребовалась вышеупомянутая буря (10), поскольку это уточняет образ самой актрисы, который мыслится как непреодолимо чуждый Полюсу, и потому лишь в дистанции противопоставляемый ему, а не выступающий с силами Полюса в контакт. Все это излагается голосами, противоположными Полюсу и потому представляемыми поэтом в несобственно-прямой речи.
Начальному «а» соответствует «но» (13), создающее своеобразную музыкальную репризу - возвращение сил полюса, которые теперь раскрываются уже как Нежить, Мертвечина. Здесь совершенно очевидно предварение образного строя цикла «Плясок смерти» («Как тяжко мертвецу среди людей .. .»), созданного двумя годами позже, раз обитель именуется «нашим склепом». Гендиадес тишина - холод представляет атрибуты смерти вместе с серебром как кладбищенским декором. Жизнь предстает как видение в царстве смерти. Завершение эпизода - совершенно явный намек на триумф актрисы в роли Нины Заречной в «Чайке», представленный как рема КРЫЛЬЯ (16) - признак этого события, ставший символом театра МХАТ. В свою очередь, предполагается эллипсис предиката * остается (в памяти) -свидетельства увековечения видения.
Срединный эпизод (3 строфы) представляет описанную экспозицию как неразрешимую загадку: «(17) Что в ней рыдало? Что боролось? / Чего она ждала от нас? /Не знаем. Умер вешний голос. /Погасли звезды синих глаз. И (21) Да, слепы люди, низки тучи ... /И где нам ведать торжества? / Залег здесь камень бел - горючий, / Растет у ног плакун - трава . И (25) Так спи, измученная славой, / Любовью, жизнью, клеветой ... / Теперь ты с нею - с величавой, / С несбыточной твоей мечтой». О разноголосице свидетельствует тут сожаление (21), формулируемое как повторяемое, автоматически воспроизводимое поэтом общее место, как цитируемый голос молвы, подслушанный поэтом на погребении, конвенция, на что указывает многоточие - аналог кавычек для анонимного голоса. В черновике намечены фразы «Как требовал, как плакал голос /Его рыданий не избыть /В ней бушевала и боролась ...». В окончательной же версии рыдания и борьба представлены в вопросительном модусе, требование заменено на ожидание, перекликающееся с предыдущим эпизодом, а бушевание снято (буря, упоминавшаяся выше, представлена как атрибут высших сил, а не самой актрисы). Заметим, что ожидание вновь обнаруживает смысл надежды, раз оно обращено к партнеру. Последовательность вопросов (17-18, 22) переводит обсуждение от героини к предполагаемому «мы» высказывания, очевидно, не тождественному поэту. От борьбы к торжеству представляет тривиальную последовательность предикатов, при которой, однако, подменяется субъект - от покойницы к «мы» свидетелей. Можно задаться вопросом, не скрыта ли тут горькая ирония поэта.
Кончина представляется через атрибуты героини - голос и глаза, которые появляются здесь впервые. Но они в свою очередь обращаются в тематическую данность, а ремами оказываются «вешний» и «звезды». Тогда эта кончина обретает облик вселенской катастрофы, где гаснут звезды и гибнет веснаХ Ответом же на сомнения и вопросы оказывается еще одна скрытая цитата, представляющая стиль погребальных причетов с их ритуальными реалиями (23-24). Кончина предстает как таинство, где взамен ответа - предикаты загробного мира камень и трава. Поэт здесь явно отстраняется от участия в обсуждении, предоставляя голос иным субъектам - молве и ритуальному оракулу.
Последняя апострофа - обращение к покойнице, заведомо не предполагающее ответа -несет не только ритуальную формулу (где любовь впервые упоминается, как и жизнь, причем именно в полемическом плане, через мучение), но также утверждение «потусторонности» явленного миру жития, раз мечта недостижима на этом свете. Но именно мечта оказывается основным атрибутом героини, тогда как силами ее мучения представляются признаки, образующие две пары гендиадес - слава и клевета, любовь и жизнь. Идиома мечта, со своей стороны, созвучна фразеологии того времени, когда славу обрела «Принцесса Греза» Э. Ростана в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник и в исполнении Л.Б. Яворской, которая произносила надгробное слово на похоронах В.Ф. Комиссаржевской. Можно допустить, что именно макропредикат *ГРЕЗА становится той идиомой, которая характеризует образный строй героини стихотворения.
Заключительный эпизод (2 строфы) дает завет живущим: «(29) А мы - что мы на этой тризне? / Что можем знать, чему помочь? /Пускай хоть смерть понятней жизни, /Хоть погребальный факел - в ночь. И (33) Пускай хоть в небе - Вера с нами. / Смотри сквозь тучи: там она - /Развернутое ветром знамя, / Обетованная весна». Мотив факела разъясняется в тексте некролога («Опрокинутый факел юности ярче старых оплывающих свеч»), так же как и мотив прозрачности туч («И есть в мире люди ... они смотрят сквозь тучи»), а «понятность» смерти истолковывается в первом же отклике - статье поэта 11.02.1910 г. («неотчетливо <... > появляются именно живые»). Существенная особенность эпизода - преобладание именного, безглагольного стиля. Исходный субъект, неопределенно-личное «мы» сопрягается с предикатом, означающим ВОЗМОЖНОСТЬ, что далее, в свою очередь, становится субъектом предикации обстоятельств, сложившихся с описываемой кончиной актрисы. Если в начальном эпизоде господствуют виртуальные сравнения, то в заключении - уступительные допущения, концессивы (пускай хоть). Таких допущений - три, обозначенных признаками: смерть, факел, небо. Они отсылают к общеизвестным образам и далее вновь превращаются данность, в тему для ремы, представленной императивом. Именно эту последнюю рему и есть основания рассматривать в качестве основания иерархии предикатов, как макропредикат, подразумевающий ЯСНОВИДЕНИЕ. А. А. Блок тут, по-видимому, разрабатывает один из сквозных мотивов своего творчества, выраженный в крылатых словах из «Пролога» к «Возмездию»: «Сотри случайные черты - / И ты увидишь: мир прекрасен». Итак, от видения, явления актрисы миру до обладания УМОЗРЕНИЕМ, умением видеть сущность сквозь тучи - таковым представляется развертывание предикатной иерархии поэтического реквиема.
Заключение
Разобранный пример показывает, что целостность поэтического текста зиждется не столько на сети взаимных ссылок, обеспечивающих связность изложения, сколько на развертывании актуальной предикации, Складывается ряд предикатов, различающихся своими рангами, причем рема одного ранга становится темой для высшего ранга. Существенно, что такая иерархическая предикация не дает пропозиции (в частности, не влечет за собой сводимость текста к гипотаксису): поскольку «предикативные ранги ... сохраняются и при аппозитивном функционировании» [Фурашов, 2010, с. 295], именно аппозитивные, а не пропозициональные структуры представляют предикатную иерархию. Полупредикативность, раскрываемая в обособленных коллокациях, играет ведущую роль для воссоздания такой иерархии в целостном анализе. Обособление способствует отвлеченности и идиоматизации и оказывается средством переосмысления языковых единиц как предикатов речи. Но тем самым предполагается реконструкция идиолекта и знание языковой системы в целом как пресуппозиции смысла предикатов. Построение речи есть интерпретация языка, вносящая в то же время вклад в его развитие, где создание предикатной иерархии обретает решающее значение.
Список литературы Предикатная иерархия в целостном анализе поэтического текста: "На смерть Комиссаржевской" А. Блока
- Гусаренко С.В., Породеева Н.А. Семантические операции по выведению макропропозиций // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 85(01) URL: http://ej.kubagro.ru/2013/01/pdf/45.pdf (дата обращения 12.12. 2016).
- ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000.
- Жинкин Н.И. Механизмы речи. Москва: Изд. Академии Педагогических Наук, 1958.
- Золотова Г.А. Монопредикативность и полипредикативность в русском синтаксисе // Вопросы языкознания. 1995. № 2. С. 99-109
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. Под общей ред. Г.А. Золотовой. М., 1998. (РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Московский гос. университет им. М.В, Ломоносова. Филологический факультет).