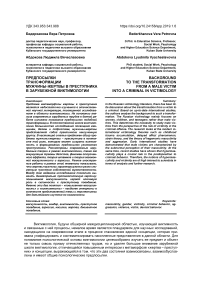Предпосылки трансформации мужчины-жертвы в преступника в зарубежной виктимологии
Автор: Бедерханова Вера Петровна, Абдокова Людмила Вячеславовна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема метаморфозы жертвы в преступника является недостаточно изученной в отечественной научной литературе, посвященной исследованиям в области виктимологии. На основании анализа современных зарубежных трудов в данной работе изложено понимание предпосылок подобной трансформации. В отечественной школе виктимологии большинство исследований посвящено женщинам, детям и подросткам, мужчины-жертвы представляют собой практически неизученную группу. В настоящей статье предложен обзор проблемы мужчины-жертвы - преступника в контексте той роли, которую может сыграть виктимность в формировании предпосылок уголовного преступления. Рассмотрены современные зарубежные теории в рамках виктимологии, такие как аккумуляция травмы детства, феномен отсроченного аффекта, теория штаммов и теория гегемонной маскулинности и агрессии. Ранние иностранные работы в рамках этой тематики показывали, что жертвы-мужчины характеризуются резко сниженным чувством собственной мужественности. Между тем недавние исследования позволили выявить диаметрально противоположную картину: повышенная маскулинность играет ключевую роль в склонности к преступному поведению. Именно эти два понятия - «повышенная маскулинность» и «виктимность» - наиболее интересны в контексте представленной темы и перспективны для дальнейшего изучения во взаимосвязи.
Маскулинность, гендер, виктимность, преступное поведение, агрессия, насилие, жертва, девиантное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/149133171
IDR: 149133171 | УДК: 343.953:343.988 | DOI: 10.24158/spp.2019.1.6
Текст научной статьи Предпосылки трансформации мужчины-жертвы в преступника в зарубежной виктимологии
В ЗАРУБЕЖНОЙ ВИКТИМОЛОГИИ
Виктимология, будучи обширной междисциплинарной областью, изучающей виктимность и связанные с ней процессы, немалое время является плацдармом для научных исследований, находящихся на современном этапе в процессе становления единой концепции, которая призвана унифицировать и систематизировать накопленные представления в данной области. Для понимания психологической основы виктимологии целесообразно изучать ее предмет и объект не только сквозь призму отечественных трудов, но и уделяя большое внимание зарубежной школе виктимологии, отличающейся повышенным интересом к метаморфозе «жертва – преступник» и концепции, выражающейся в том, что эти два состояния взаимосвязаны, взаимообусловлены и имеют общие психологические предпосылки.
Ранее мы проводили сравнительное исследование групп лиц, склонных к насилию и виктимности, а также сопоставляли их с людьми без отклонений в поведении. Полученные результаты показали, что первые две группы имеют ряд общих характеристик, что наблюдается при соотношении их с контрольной группой. Этот факт дает возможность рассматривать преступников и жертв как единую группу лиц с нарушенной адаптацией, в результате которой сформировался комплекс их социально-психологических особенностей [1].
Еще одной отличительной чертой отечественной школы виктимологии выступает факт, что большинство исследований посвящено женщинам, детям и подросткам. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что мужчины-жертвы являются практически неизученной группой в отечественной научной литературе. Согласно статистическим данным некоторых зарубежных авторов, количество мужчин, ставших жертвами преступлений, достигает 16 на 1 000 человек. Доля женщин для сравнения – 21 на 1 000, однако стоит принимать во внимание, что мужчины реже обращаются в правоохранительные органы за помощью, поэтому реальные показатели могут быть гораздо выше [2].
Итак, насилие над женщинами и детьми статистически более распространено в сравнении с насилием над мужчинами. Однако важно учитывать, что мужчины, которые совершают преступные деяния, возможно, сами ранее были жертвами и именно это обусловило их агрессивное поведение в будущем. В контексте сказанного социально-психологическое содействие в преодолении насильственного и виктимного поведения необходимо не только женщинам, детям и подросткам, но и мужчинам. Становится очевидным, что виктимологический замкнутый круг «жертва – преступник – жертва» можно разомкнуть средствами своевременной психологической помощи и таким образом на глобальном уровне снизить преступность. Этот факт обусловливает практическую значимость данной статьи.
Процессы становления личностей жертвы преступления и преступника имеют удивительное сходство и обычно берут начало в запредельном стрессе родом из детства. В зарубежных источниках подробно описывается феномен «подавленного, отсроченного аффекта», когда травма детства аккумулируется в подсознании и находит выход во взрослой жизни, реализуясь через преступное поведение [3]. «Аффект родом из детства» – это эмоциональный взрыв, обусловленный осознанием тяжести преступления или тяжести его последствий повзрослевшей жертвой. Последняя при этом сама не могла готовить себя к моменту осознания тяжести произошедшего, поскольку не обладала для этого в силу возраста психологическим ресурсом. Так как аффект просто отложен, основания для него уже сформированы.
В рамках данной тематики можно выделить два диаметрально разных подхода, основанных на выявлении личностной характеристики, на базе которой определяется дальнейшая метаморфоза из жертвы в преступника. Примечательно, что оба метода принадлежат одному ученому, все другие авторы в публикациях ссылаются именно на него. Первый подход базируется на ранних исследованиях, которые показывают, что мужчины-жертвы, подвергшиеся насилию в детском возрасте, в будущем характеризуются резко сниженным чувством собственной мужественности [4]. Между тем недавние труды автора отражают противоположную картину – мужчины-жертвы в дальнейшем приобретают черты гипервыраженной маскулинности, которая играет ключевую роль в склонности к будущему преступному поведению [5].
Представляется логичным, что именно эти два понятия – преступности и субъективной оценки своей мужественности после виктимизации – наиболее интересны в контексте данной тематики и перспективны для дальнейших исследований в области виктимологии. Для дальнейшего углубления в тему трансформации жертвы-мужчины в преступника важно рассмотреть концепцию гегемонной маскулинности, которая характеризуется господствующим положением мужского пола в структуре гендерных отношений.
Данная концепция относится к структуре власти в патриархальном обществе, где доминируют мужчины [6]. Они соперничают, чтобы быть на вершине этой социальной «иерархии мужественности». Считается, что тот, кто находится наверху, рассматривается как самое сильное звено в обществе. Вершина иерархии представлена уверенными в своей маскулинности мужчинами, отличающимися снисходительным отношением к женщинам и их слабостям.
В этой иерархии существуют и другие мужские роли. Например, мужчина, который имеет не самый высокий интеллект или не очень выдающиеся физические характеристики и осознает это, находится в середине иерархии. Такие мужчины обычно разделяют некоторые из обязанностей по дому с женами. Данная категория считает себя «выше» женщин, однако использует модель сотрудничества в отношениях. На нижней ступени иерархии гегемонной маскулинности находятся лица с субординированной мужественностью. Это мужчины, которые «подчиняются» другим мужчинам, доминирующим в обществе, либо женщинам-партнерам; сюда же относятся и гомосексуалисты [7].
Склонность к агрессии как одному из факторов маскулинности может стать предпосылкой преступного поведения. Гнев для мужчины является социально приемлемым способом демонстрации внутренней «силы», в то время как мужчина с эмоциями грусти или печали, стремящийся поделиться эмоциональными переживаниями, относится к слабой категории в контексте теории геге-монной маскулинности [8]. Именно этот факт затруднял множество исследований, которые имели цель изучить связь виктимности мужчин с их дальнейшей ролью преступника. Испытуемые не были склонны говорить о проблемах из детства и делиться эмоциональными переживаниями, которые могли быть важны для оценивания степени воздействия на психику отдельно взятого индивида.
Итак, агрессия исторически привязана к «мужественности» и способности защитить себя. Если мужчина не агрессивен и при физическом нападении занимает пассивную позицию, он не может рассматриваться как «сильный пол» в собственных субъективных координатах [9]. Агрессия также играет ключевую роль в рискованном поведении мужчины. В контексте «мужественности» она не всегда понимается зарубежными авторами как способность «напасть на слабого». В первую очередь агрессия трактуется как возможность реализовывать себя через финансовую или интеллектуальную составляющую, действовать «агрессивно» по отношению к соперникам на пути к цели [10].
Общество часто увековечивает агрессию через награждение тех, кто принимает на себя всевозможные риски, называя таких людей «герой» или «патриот» [11]. Сексуальная агрессия как способность доминировать над женщиной и проявлять биологические задатки также рассматривается с положительной стороны в контексте гегемонной маскулинности.
Следует определить взаимосвязь «аккумуляции травмы детства», «отсроченного аффекта», гегемонной маскулинности и агрессии в контексте виктимологической науки. Ее можно выявить, если вернуться к классификации жертв, созданной еще В. Мендельсоном (1958), который первым предложил термин «уголовная пара». Итак, его классификация состоит из шести типов жертв и по сути имеет не психологическую направленность, а криминологическую:
-
– «абсолютно невинная жертва (идеальная жертва);
-
– жертва, пострадавшая из-за своего невежества;
-
– жертва так же виновная, как и преступник (добровольно потерпевшая);
-
– жертва более виновная, чем преступник (жертва-провокатор или неосторожная жертва);
-
– агрессивная жертва;
-
– имитирующая жертва и воображаемая жертва» [12].
Согласно некоторым исследованиям, женщины чаще относятся к первым трем категориям жертв, а мужчины – к жертвам-провокаторам и агрессивным жертвам. Этот факт объясняется проявлением «маскулинной агрессивности», которая является компонентом маскулинной гегемонии и виктимизирующим фактором одновременно.
Мужчины, которые были жертвой насилия (неважно – психологического, физического, бытового или военного), чувствовали себя униженными в момент его совершения. В будущем аффект, полученный ранее, аккумулировался и в качестве первого проявления давал знать о себе в возникшей у мужчины потребности удовлетворить гендерную «нормальность», чтобы почувствовать себя достаточно мужественным за счет восхождения на верхнюю ступень гегемонной маскулинности. Одним из факторов, способствующих поднятию личности вверх в данной иерархии, является подчинение людей (в карьере, обществе друзей, отношениях) [13]. Однако в условиях, когда этого не удается достичь социально приемлемыми способами, индивид начинает чувствовать невосполненный дефицит мужественности, который может обернуться противоправным поведением [14].
В контексте сказанного важно также упомянуть концепцию «насилие порождает насилие», которая зародилась еще в 1960 г. и была окончательно сформулирована в 1989 г. Теория гласит, что лица, ставшие жертвами жестокого обращения в детском возрасте, повзрослев, могут повторить поведение насильника [15].
Этот процесс часто объясняется теорией социального обучения А. Бандуры, согласно которой поведение ребенка формируется исходя из ролевых моделей родителей или опекунов, перенимаемых на подсознательном уровне [16]. Эмпирические исследования в течение последних двух десятилетий подтвердили эту гипотезу [17].
Работы в рамках продолжения темы мужчин-жертв – преступников были посвящены определению разницы между мужчинами и женщинами в проблеме взаимосвязи насилия в детстве и девиантного поведения. До 2012 г. оценки имели неубедительную достоверность относительно существования большой разницы между мужским и женским отсроченным результатом насилия. В 2012 г. ученые пытались выявить гендерные различия в контексте теории «насилие порождает отсроченное насилие» с помощью гендерной модели разделения участников исследования и дальнейшего изучения связи жестокого обращения в детстве и агрессивного поведения во взрослой жизни. Результаты показали, что несовершеннолетние жертвы мужского пола чаще совершали преступления, чем девочки [18]. Исследования индивидов в зрелом возрасте в литературе отсутствуют и являются перспективными в свете раскрытия темы гендерных различий в виктимологии.
В дополнение к сказанному важно отметить, что в любой теории есть факторы, которые могут благоприятствовать ее подтверждению в конкретной ситуации или, наоборот, оказывать тормозящее влияние. Так, можно спроецировать «мужественность» и «преступность» на теорию штаммов Р. Агнью (R. Agnew) (2006), сфокусированную на том, как некоторые стандартные жизненные штаммы влияют на склонность человека к совершению преступления. Гипотеза определяет штаммы как любое событие или условие, которое резко нарушает границы мировоззрения человека и не вписывается в рамки его восприятия окружающей действительности [19]. Безусловно, каждый человек сталкивается с подобными ситуациями в жизни, однако автор утверждает, что существуют три специфических типа штаммов, в большей степени способствующих преступному поведению:
-
– когда человека длительный период несправедливо унижают, оскорбляют, а он не обладает ресурсами для ответной реакции;
-
– когда человек теряет то, что ценит больше всего;
-
– если человек никакими силами не в состоянии достичь своих целей и ощущает беспомощность [20].
Эти штаммы могут оказать влияние на возможное преступное поведение только при условии низкого уровня социального контроля. В данной теории девиантное поведение выступает как механизм индивидуальной адаптации к стрессогенному воздействию штамма [21]. Большое значение указанная концепция приобретает при рассмотрении темы мужчин-жертв – преступников, поскольку мальчики воздействие штаммов часто рассматривают как наивысшую несправедливость ввиду того, что у жертвы из-за специфики возраста на тот момент не хватало внутренних психических и внешних физических ресурсов, чтобы справиться с психогенным фактором.
Далее вступает в силу теория деформации А. Иратцокуи (A. Iratzoqui) (2018), которая объясняет, что деформирование мужской личности в детстве не могло на том этапе обрести соответствующую психологическую компенсацию (девочки могли дать выход эмоциям и смягчить деформацию). Поэтому во взрослой жизни данный факт будет иметь последствия, которые могут проявиться в преступном поведении. К последнему мужчины склонны в большей степени, чем женщины, нашедшие выход негативных последствий штамма в эмоциональной реакции [22].
Итак, несмотря на то что данная тема является малоизученной в отечественной науке, к ней возрастает интерес среди зарубежных исследователей, поскольку виктимология стремительно развивается как научная отрасль. В статье рассмотрены основные современные подходы к пониманию проблемы «жертва – преступник» в психологическом аспекте. В основу гипотезы легла идея о том, что мужчины, ставшие жертвами насилия в раннем возрасте, в будущем переживают ослабление ощущения собственной мужественности, которое компенсируется гипермаскулинными проявлениями агрессии. Это направление имеет значительную перспективу научного исследования. Практическая значимость представленной работы подтверждается следующим положением. Замкнутый круг «жертва – преступник – жертва» можно разомкнуть средствами своевременной психологической помощи, в рамках которой необходимо еще на раннем этапе (в образовательных учреждениях) уделять повышенное внимание именно мужской части коллектива, ввиду того что превалирующая часть преступников – мужчины, подвергнутые воздействию насилия в раннем возрасте и не сумевшие с этим самостоятельно справиться, аккумулировав негатив в противоправное поведение.
Ссылки:
(дата обращения: 23.01.2019).
Список литературы Предпосылки трансформации мужчины-жертвы в преступника в зарубежной виктимологии
- Бедерханова В.П., Абдокова Л.В. Социально-психологическое содействие в преодолении насильственного и виктимного поведения // Феноменология и профилактика девиантного поведения: материалы ХI Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2018. C. 10-13.
- Truman J., Morgan R. Criminal Victimization, 2015 [Электронный ресурс] // Bureau of Justice Statistics. 2016. URL: https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv15.pdf (дата обращения: 23.01.2019).
- Iratzoqui A. Strain and Opportunity: A Theory of Repeat Victimization // Journal of Interpersonal Violence. 2018. Vol. 33, no. 8. P. 1366-1387. DOI: 10.1177/0886260515615146
- Messerschmidt J.W. Masculinities and Crime. Lanham, MD, 1993.
- Messerschmidt J.W. Crime as Structured Action: Doing Masculinities, Race, Class, Sexuality, and Crime. 2nd ed. Lanham, MD, 2016.
- Connell R.W. Masculinities. 2nd ed. Los Angeles, CA, 2005.
- Cleaver F. Men and Masculinities: New Directions in Gender and Development // Masculinities Matter! Men, Gender and Development. L., 2018. P. 1-27.
- Confirmatory Factor Analytic Investigation of Variance Composition, Gender Invariance, and Validity of the Male Role Norms Inventory-adolescent-revised (MRNI-A-r) / R.F. Levant, R.C. McDermott, A.A. Hewitt, K.M. Alto, K.T. Harris // Journal of Counseling Psychology. 2016. Vol. 63, no. 5. P. 543-556.
- DOI: 10.1037/cou0000163
- Lindsey L.L. Gender Roles: A Sociological Perspective. 5th ed. Boston, MA, 2011.
- Newburn T., Stanko E. When Men are Victims: The Failure of Victimology // Just Boys Doing Business: Men, Masculinities and Crime. L.; N. Y., 1995. P. 153-165.
- Wilczak A. Gender, Crime, & Justice: Exploring the Dynamics. Boulder, CO, 2017.
- Mendelsohn B. La Victimologie // Revue Francaise de Psychanalyse. 1958. Jan. - Febr.
- Heber A. "You Thought You Were Superman": Violence, Victimization and Masculinities // The British Journal of Criminology. 2017. Vol. 57, no. 1. P. 61-78.
- DOI: 10.1093/bjc/azv117
- Widom C. The Cycle of Violence // Science. 1989. Vol. 244 (4901). P. 160-166.
- Higgins G.E., Marcum C.D. Criminological Theory. Frederick, MD, 2016.
- Misheva V., Webbink D., Martin N. The Effect of Child Maltreatment on Illegal and Problematic Behavior: New Evidence on the "Cycle of Violence" Using Twins Data // Journal of Population Economics. 2017. Vol. 30. P. 1035-1067.
- DOI: 10.1007/s00148-017-0642-3
- Topitzes J., Mersky J., Reynolds A. From Child Maltreatment to Violent Offending: An Examination of Mixed-gender and Gender-specific Models // Journal of Interpersonal Violence. 2012. Vol. 27, no. 12. P. 2322-2347.
- DOI: 10.1177/0886260511433510
- Agnew R. Pressured into Crime: An Overview of General Strain Theory. Los Angeles, CA, 2006.
- An Empirical Assessment of the Overlap between Sexual Victimization and Sex Offending / W. Jennings, K. Zgoba, T. Maschi, J. Reingle // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2014. Vol. 58, no. 12. P. 1466-1480.