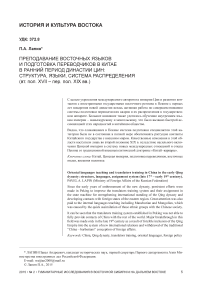Преподавание восточных языков и подготовка переводчиков в Китае в ранний период династии Цин: структура, языки, система распределения (вт. пол. XVII - пер. пол. ХIХ вв.)
Автор: Лапин П.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
С целью укрепления международного авторитета империи Цин и развития контактов с иностранными государствами восточного региона в Пекине с первых лет воцарения новой династии велась активная работа по совершенствованию системы подготовки переводческих кадров и их распределения в государственном аппарате. Большое внимание также уделялось обучению внутренним языкам империи - маньчжурскому и монгольскому, что было вызвано быстрой ассимиляцией этих народностей в китайском обществе. Видно, что сложившаяся в Пекине система подготовки специалистов этой категории была не в состоянии в полной мере обеспечивать растущие контакты Китайского государства с внешним миром. Качественные изменения в этой области наступили лишь во второй половине XIX в. вследствие насильного включения Цинской империи в систему новых международных отношений и отказа Пекина от традиционной внешнеполитической доктрины «Китай-варвары».
Китай, цинская империя, подготовка переводчиков, восточные языки, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170175585
IDR: 170175585
Текст научной статьи Преподавание восточных языков и подготовка переводчиков в Китае в ранний период династии Цин: структура, языки, система распределения (вт. пол. XVII - пер. пол. ХIХ вв.)
В 1644 г. в Китае воцарилась маньчжурская династия Цин (1644–1911), первые правители которой приступили к созданию нового государства, успешно используя при этом богатый административный и управленческий опыт своих предшественников, – минских императоров. Одним из направлений работы создаваемого государственного аппарата стало развитие местной школы преподавания восточных языков и системы подготовки переводческих кадров, что, в том числе, должно было способствовать укреплению международного статуса маньчжурской империи в восточном регионе и установлению контактов с государствами, которые прежде находились на периферии китайских внешнеполитических интересов.
Первым делом цинские чиновники провели ряд незначительных с административной точки зрения, но чрезвычайно важных в политическом отношении преобразований в старейшем учебном заведении по преподаванию иностранных языков – школе Сыигуань (букв.: Школа [языков] варваров четырех стран света), открытой еще во время династии Мин в 1407 г.1 В 1644 г. она получает новое, хотя и созвучное с прежним название (второй иероглиф в его названии и (夷 «варвары») был заменен на и (译 «перевод»), в результате чего учебное заведение стало называться Школа [по подготовке] переводчиков [языков] четырех стран света)2. Кроме того, был изменен и перечень преподававшихся языков, так как два из них к тому времени из языков «варваров» превратились в языки правящего сословия империи. Было расформировано отделение маньчжурского языка, а вскоре и отделение монгольского языка (монголы составляли значительную часть «знаменных войск», на которые опиралась новая династия). Таким образом, от прежних десяти отделений там осталось восемь [16, с. 57–58; 12, с. 442].
Параллельно с «подгонкой» школы под новую политическую ситуацию шло обновление системы преподавания и распределения выпускников. Положение дел в Сыигуань в это время было достаточно сложным. В 1644 г. занятия там реально посещали всего 32 ученика вместо 64, занесенных в списки. Оставшиеся после реформы восемь отделений были укомплектованы слушателями лишь наполовину, а некоторые из них, как, например, отделение языков «ста варваров» ( Байи гуань ), и вовсе пустовали. Поэтому в целях упорядочения системы набора абитуриентов и всего образовательного процесса в 1645 г. от имени императора Шуньчжи3 был издан указ о дополнительном наборе в учебное заведение 60 новых слушателей. Однако новых учеников, видимо, набрать так и не удалось, так как и в 1653 г. там их по-прежнему практически не было [31, с. 622]4. Кроме того, Ведомство общественных работ ( Гунбу ) никак не могло решить вопрос о предоставлении школе новых помещений, так как те постройки, в которых располагалось это учебное заведение еще при предшествовавшей династии, пришли в полную негодность [31, с. 622]5. Имевшиеся трудности, тем не менее, не помешали ввести в 1662 г. новые правила аттестации учеников. Отныне основные экзамены в школе сдавались дважды (осенью и весной), проводились они в присутствии членов Академии Ханьлиньюань. Кроме того, организовывались ежемесячные экзамены, которые принимали сами преподаватели [23, с. 205].
Незначительное увеличение количества учеников и частичная модернизация экзаменационной системы позволили реанимировать работу учебного заведения и принять в 1672 г. новый устав, сформулировавший новые подходы к организации образовательного процесса [12, с. 442–443].
В 1748 г. школа была включена в Управление гостевых резиденций ( Хуэйтунгуань ; ведомство, отвечавшее за прием иностранных послов). Новая структура стала называться Школа [ по подготовке ] переводчиков [ языков ] четырех стран света при Управлении гостевых резиденций ( Хуэйтун сыигуань ) [29, с. 3; 12, с. 445–446] и находилась в двойном подчинении – Ведомства обрядов ( Либу ) и Церемониального управления ( Хунлусы ) [3, с. 126; 27, с. 62]6.
Объединение школы с организационно-протокольной службой империи повлекло за собой ряд изменений в структуре этого учебного заведения. Прежние восемь отделений были объединены в два: отделение по изучению языков «Западного края» ( Сиюй гуань ) и отделение по изучению языков «ста варваров» ( Байи гуань ) [29, с. 3]. Было сокращено и количество учащихся. По результатам проведенных экзаменов право продолжить обучение в школе получили лишь те из них, кто показал лучшие результаты в каждом из восьми отделений, а остальные были отчислены (в экзаменационной сессии приняли участие по разным данным от 96 до 104 учащихся, из которых в школе были оставлены от 8 до 10 человек). С восьми до двух было сокращено количество кураторов групп ( сюйбань ), отвечавших за процесс обучения [27, с. 62; 3, с. 126]7.
Уделялось внимание обновлению дидактической базы школы, еще с Минских времен представленной однотипными учебниками-разго- ворниками по разным языкам, объединенных в серию «Хуа-и и юй» («Китайско-варварские переводы»). Сложно сказать, были бы предприняты какие-либо шаги в этом направлении вообще, если бы не личная инициатива императора Цяньлуна, который в 1748 г. начал проведение масштабных мероприятий по обновлению учебных материалов этой школы:8 «Император прочитал множество книг (разговорников. – прим. авт), хранившихся в Сыигуань и написанных на языках окраинных [территорий]. Они делятся на виды и содержат переводы различных имен и предметов. Учебники по языку государства Сяньло, языка байи, бирманского языка, языка государства Бабай, фарси, уйгурского языка и другие передать на рассмотрение в наши области, граничащие с этими государствами. Приказать осуществить сбор [новых данных] и внести дополнения [в имеющиеся учебные пособия]» [24, цз. 324, с. 352-353]. В качестве образца, на который необходимо было ориентироваться при доработке имевшихся словников, монарх указал учебник по языкам группы сифань.
Основная часть работы по редактированию лексиконов была завершена к 1750-м гг. (полностью завершены к 1761 г.), в результате чего в учебное заведение было направлено несколько десятков обновленных разговорников по всем языкам, которые преподавались в Сыигуань. По данным немецкого исследователя В. Фукса, в 1930-х гг. в Пекине сохранилось 98 наименований учебных пособий по 36 иностранным языкам, подготовленных примерно в середине XVIII в. [20, с. 91-93]9.
Значительный интерес вызывает лексикон по языкам сифань («сифань и юй», также называют «чуаньфань и юй»). С учетом интереса монарха именно к этим языкам в середине 1750 г. ему было доложено о получении только из одной провинции Сычуань учебников, содержавших данные о девяти языках, входивших в сифань [ 24, цз. 369, с. 1085 ] 10. Эти пособия в общей сложности включали 20 тематических разделов и насчитывали 740 слов и выражений [ 21, с. 58-64; 14, с. 49 ] . Проведенные чиновниками мероприятия были важны с точки зрения обновления дидактической базы Сыигуань, оказались они полезными и для обогащения истории китайского языкознания и расширения теоретической базы исследования малых и вымирающих языков китайских национальных меньшинств на современном этапе.
Школа Сыигуань при Управлении гостевых резиденций была расформирована в 1903 г., хотя свое значение как центра по подготовке переводческих кадров она начала терять уже со второй половины ХIХ в. [12, с. 446; 3, с. 126]. В период активной колониальной политики мировых держав в восточном регионе строить внешнюю политику на основе системы даннических миссий (чаогун), с которыми должна была работать эта структура, было уже невозможно. Вместо проведения глубо- ких реформ в Сыигуань китайские власти создавали схожие языковые школы в надежде усилить систему подготовки переводчиков.
В ранний период цинской истории кроме Сы-игуань восточные языки также преподавались и в учебных заведениях Палаты по делам вассальных территорий ( Лифаньюань , образована в 1638 г.; курировала, в том числе, российское направление китайской внешней политики). В разное время там функционировали Школа монгольского языка ( Мэнгу гуань сюэ ), Школа тибетского языка ( Тангутэ сюэ ) и Школа ойратской письменности ( Тотэ сюэ ). Школа русского языка ( Нэйгэ элосы вэнь гуань ), созданная в 1708 г. для перевода корреспонденции, приходившей из России, и подготовки посланий российским властям, находилась в двойном подчинении – Дворцовой канцелярии и Лифаньюаня.
Основные внутренние национальные языки – маньчжурский и монгольский – также преподавались в других учебных заведениях государства. Главным из них считалось Училище Гиоро ( Цзю-эло сюэ ), в котором обучались китайскому, маньчжурскому языкам и переводу те, кто принадлежал к императорскому клану. Училище было открыто в 1729 г., туда зачислялись родственники монарха в возрасте от 8 до 18 лет, приписанные к «восьми знаменам» [25, с. 58]. Эти же языки слушатели изучали и в Государственном училище «восьми знамен» ( Баци гуаньсюэ ), учрежденном Ведомством обрядов в 1655 г. [25, с. 53]. Кроме языков, ученики также осваивали конную езду и стрельбу из лука – типичные занятия «знаменных солдат». К изучению перевода допускались не все желающие, а лишь «знаменные солдаты в возрасте 10–18 лет, обладавшие способностями и талантом» [22, с. 74; 11, цз. 5, с. 125].
Кроме перечисленных учебных заведений, в Пекине также были открыты три бесплатных школы (и сюэ)11: школа «восьми знамен» (Баци и сюэ)12, школа для китайских солдат «восьми зна- мен» (Баци ханьцзюнь и сюэ)13 и школа при Ведомстве обрядов (Либу и сюэ)14 [22, с. 75]. Стоит сказать, что открытие лишь в одной китайской столице нескольких школ, где преподавались национальные языки империи, было во многом обдуманным решением властей. Уже в первой половине ХVIII в. многие маньчжуры в значительной степени ассимилировались и перешли на китайский язык [9, с. 263; 10, с. 235–236]. И хотя для значительной части учащихся всех этих школ маньчжурский язык формально был родным, его качественное изучение порой и для них требовало усилий, сопоставимых с изучением иностранного языка.
Выпускники языковых учебных заведений (за исключением бесплатных школ для простолюдинов) направлялись в ведомства, где требовались переводчики. К таким ведомствам относились монгольский ( мэнгу фан ) и китайский отделы ( ханьбэнь фан ) Дворцовой канцелярии ( Нэйгэ ), отдел по подготовке хроник императоров ( шилу гуань ) Дворцовой канцелярии, отдел внутренних переводов ( нэйфань шуфан ) Военного совета ( Цзюньцзичу ) (там осуществлялся перевод с китайского на маньчжурский и обратно документов, передававшихся центральными ведомствами в архив Дворцовой канцелярии; в штате состояли 40 переводчиков), департаменты ( цин-лисы ) Палаты по делам вассальных территорий и Ведомства обрядов ( Либу ), а также отделы ( кэ ) Церемониального приказа и т.д. (подробнее о системе распределения выпускников языковых учебных заведений см.: [16, с. 382–383; 27, с. 62, 71, 142–151]).
Важно отметить, что при наличии стабильной системы подготовки кадров, владевших иностранными языками, профильные государственные ведомства, тем не менее, ощущали нехватку специалистов этой категории [1, с. 41–43]. Трудности имелись даже с набором специалистов, знавших монгольский и маньчжурский языки и способных осуществлять качественный перевод (и это притом, что в Пекине работало как минимум по два учебных заведения, где маньчжуры могли учить монгольский, а монголы – маньч- журский). «Солдат в монгольских знаменах, способных переводить с монгольского языка [на маньчжурский], крайне мало, - указывалось в 1731 г. в депеше Дворцовой канцелярии в Лифаньюань. – Необходимо в соответствии с правилами проведения экзаменов по переводу среди монголов, владеющих маньчжурским языком, провести экзамены для последующего направления [тех, кто их успешно выдержит, на службу] в Лифаньюань» [25, с. 300]15. На местах ситуация с набором монгольских переводчиков маньчжурского языка была еще более сложной. «Среди представителей монгольских княжеских фамилий и тайджи (низшая должность в монгольской администрации. – прим.авт.), – указывал исследователь А.В. Попов, – главным образом привлекаемых в цинский административный аппарат, далеко не все могли хотя бы в малой степени писать и объясняться по-маньчжурски» [18, с. 101]16.
Такова была история преподавания восточных языков в Цинской империи в ранний период ее существования. Маньчжуры унаследовали минскую образовательную структуру, принципы преподавания языков и систему распределения выпускников. Ведущим учебным центром в раннее цинское время по-прежнему оставалась школа Сыигуань, в которой преподавались иностранные языки государств, поддерживавших с Цинской империей тесные контакты. С целью укрепления контактов правящего дома с национальными районами и одновременно прививания правящему сословию основ китайской культуры в столице также был открыт ряд языковых школ и училищ, где велось обучение основным внутренним языкам империи – китайскому, маньчжурскому, монгольскому, уйгурскому. Проводившиеся в этих учебных заведениях в течение многих лет реформы способствовали укреплению кадрового потенциала китайских внешнеполитических ведомств. Важным шагом стало объединение Сыигуань с Управлением гостевых резиденций, что, по крайне мере, теоретически давало возможность обучавшимся практиковать свои знания при контактах с иностранными миссиями.
Стоит, однако, сказать, что эта разветвленная и достаточно масштабная система подготовки переводчиков не отличалась высокой эффективностью. Регулярно проводившиеся преобразования не затрагивали базовых принципов обучения, которые были заложены еще при прежних династиях и с течением времени устарели. Перечень преподаваемых языков определялся исключительно потребностью общения с посольствами, прибывавшими в Китай, чтобы в соответствии со сложившимися ритуально-дипломатическими нормами засвидетельствовать формальное признание сюзеренитета китайского монарха. Государства, не поддерживавшие тесных контактов с Китаем и не присылавших своих представителей в Пекин с «данью» для китайского монарха, китайцев практически не интересовали. Деятельность Цяньлуна по обновлению дидактической базы преподавания восточных языков в Сыигуань в итоге свелась к дополнению и обновлению имевшихся в наличие учебников серии «Хуа-и и юй» с сохранением их структуры, а значит и методов обучения, которые были весьма архаичны.
В цинский период столичные власти продолжали сталкиваться с существенной нехваткой переводчиков, способных обеспечивать контакты Пекина с внешним миром и региональной военно-политической элитой. Возникший кадровый дефицит некоторые исследователи связывают с преднамеренным ограничением доступа слушателей к языковым учебным заведениям и решением местных администраторов при наборе абитуриентов ориентироваться исключительно на привилегированные слои населения. Не исключено, что такая избирательность диктовались соображениями безопасности. «Цинские власти уделяли большое внимание подготовке переводчиков, – справедливо отмечал китайский исследователь Гао Сяофан, – но их понимание того, что из себя представляли иностранные языки и каковы принципы их преподавания, было весьма ограниченным. Они считали, что иностранные языки имеют непосредственное отношение к политическим и экономическим тайнам и поэтому их преподавание должно вестись с соблюдением секретности» [4, с. 59]17. Такое утверждение во многом справедливо, ведь выпускники распределялись в ведомства, имевшие непосредственное отношение к обеспечению безопасности на границах империи и контактам двора с иностранными послами, содержание переговоров с которыми считалось конфиденциальной информацией. Несмотря на явно невысокую должность, круг обязанностей и полномочий, переводчик, тем не менее, становился носителем важных, подчас секретных знаний, вызывая тем самым высокий интерес к себе со стороны иностранцев18. Подобные требования, предъявляемые к потенциальным слушателям учебных заведений, заставляли китайских чиновников принимать в языковые школы исключительно представителей привилегированных сословий, что снижало риск попадания в центральный аппарат случайных лиц, «но являлось крайне неблагоприятным для формирования кадрового резерва и последующего подбора служащих» [4, с. 59].
Неблагоприятной была также ситуация и с набором переводчиков, способных работать с внутренними языками империи, – маньчжурским и монгольским, и это несмотря на то, что власти открывали дополнительные профильные учебные заведения, а также предпринимали попытки распространить маньчжурский и монгольский языки среди представителей коренного населения Севера и Северо-Востока империи, включая дауров, эвенков, орочей [ 19, с. 836 ] .
В целом, цинская система подготовки специалистов, владевших иностранными и внутренними национальными восточными языками, функционировала с учетом сложившихся в прежние времена образцов. Вместе с богатой традицией подготовки переводчиков и их последующего использования в интересах наращивания контактов с внешним миром маньчжурские администраторы также унаследовали и стереотипное мышление, сложившееся в рамках официальной внешнеполитической доктриной «Китай–варвары», которое фактически блокировало любые новаторские идеи по подготовке переводческих кадров и попытки расширить рамки их использования во внешней политике. Такая ситуация сохранялась вплоть до второй половины ХIХ в., когда вслед за насильным вовлечением слабеющей Цинской империи в новые международные отношения в Китае начали открываться школы иностранных языков, образование в которых строилось по западным образцам.
Список литературы Преподавание восточных языков и подготовка переводчиков в Китае в ранний период династии Цин: структура, языки, система распределения (вт. пол. XVII - пер. пол. ХIХ вв.)
- Ван Ли, 2007. Циндай фаньи кэ шулунь (Очерк о переводческом деле во время династии Цин)//Ляонин дасюэ сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэбань). № 4. С. 40-43. 2.
- Ван Сюн, 1987. Минчао дэ сыигуань цзици дуй ицзышэн дэ пэйян (Минская школа иностранных языков и подготовка в ней переводчиков)//Миньцзу яньцзю. № 2. С. 62-69. 3.
- Ван Цзин, 2006. Циндай хуэйтун сыигуань лунькао (Разыскания о цинской школе переводчиков четырех стран света при Управлении гостевых резиденций)//Сибэй дасюэ сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань). № 5. С. 125-128. 4.
- Гао Сяофан, 2007. Ваньцин янъу сюэтан дэ вайюй цзяосюэ яньцзю (Исследования по преподаванию иностранных языков в иностранных школах в позднецинский период). Пекин: Шанъу иньшуагуань (Издательство «Шанъу»). 5.
- Дай Мин хуэйдянь (Свод узаконений Великой династии Мин). . 6.
- Ду Цзяцзи, Цинь Сяньбао, 2007. Циндай ба ци сюэсяо чжун дэ вайюй цзяоюй (Преподавание иностранных языков в школах «восьми знамен» в цинский период)//Маньцзу яньцзю. № 1. С. 76-78. 7.
- Дэнтань бицзю (Стремительные перестроения при военном наступлении), 2000//Сюйсю сыку цюаньшу («Продолжение полного собрания книг по четырем разделам»). Пекин: Бэйцзин чубаньшэ (Пекинское издательство). 8.
- История Османского государства, общества и цивилизации. Т. I. М.: «Восточная литература», 2006.
- Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М.: «Наука», 1987.
- Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: «Восточная литература», 1997.
- Ли Гоцзюнь, Ван Фаньчжао, 2000. Чжунго цзяоюй чжиду тунши (Общая история системы образования в Китае). Т. V. Цзинань: Шаньдун цзяоюй чубаньшэ (Издательство «Шаньдунское образование»). 12.
- Ли Наньцю, 2002. Чжунго коуи ши (История устного перевода в Китае). Циндао: Циндао чубаньшэ (Циндаоское издательство). 13.
- Линь Цзы, 1989. Миндай дэ гуаньбань юй-янь сюэсяо -сыигуань (Минская казенная школа по преподаванию иностранных языков -Сыигу-ань)//Синьцзян цзяоюй сюэюань сюэбао (чжэшэбань). № 2. С. 66-69. 14.
- Лю Хунцзюнь, Сунь Боцзюнь, 2008. Цунь ши хуа-и и-юй цзици яньцзю (Существующие в настоящее время «китайско-варварские переводы» и исследования их)//Миньцзу яньцзю. № 2. С. 47-55. 15.
- Ма Гожун, 1999. Тан хунлусы шулунь (Очерк о танском Церемониальном управлении)//Сиюй яньцзю. № 2. С. 20-28. 16.
- Ма Цзуи, 1999. Чжунго фаньи ши (История переводческого дела в Китае). Т. I. Ухань: Хубэй цзяоюй чубаньшэ (Издательство «Хубэйское образование»).
- Панкратов Б.И. Изучение восточных языков в Китае в период династии Мин (1368-1644)//Страны и народы Востока. 1998. Вып. 29. С. 105-127.
- Попов А.В. О подготовке халхаских князей и чиновников к службе в цинском аппарате//XXIV Научная конференция «Общество и государство в Китае». Вып. 2. М., 1993. С. 93-101. 19.
- Rawski, E.S., 1996. Presidential address: reenvisioning the Qing: the significance of the Qing period in Chinese history. The Journal of Asian Studies, Vol. 55, no. 4, pp. 829-850. 20.
- Fuchs, W., 1931. Remarks on a new "Hua-I-I-Yu". Bulletin of the Catholic University of Peking, no. 8, pp. 91-97. 21.
- Фэн Чжэн, 1981. Хуа-и и юй дяоча цзи (Разыскания о «китайско-варварских переводах»)//Вэньу. № 2. С. 57-68. 22.
- Хань Дамэй, 1996. Циндай ба ци цзыди дэ сюэсяо цзяоюй (Школьное обучение учеников, принадлежавших к «восьми знаменам», в цинский период)//Ляонин дасюэ сюэбао (шэхуэй кэсюэ бань). № 2. С. 73-75.
- Hirth, F., 1887. The Chinese oriental collage. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXII, pp. 203-223. 24.
- Цин шилу. Гаоцзун чунь хуанди шилу (Хроники династии Цин. Хроники правления императора Гаоцзун), 1986. Т. XIII. Пекин: Чжунхуа шуцзюй (издательство «Китайское книжное управление»). 25.
- Цин шилу цзяоюй, кэсюэ, вэньхуа шиляо цзияо (Сборник материалов по образованию, науке и культуре из Хроник династии Цин), 1991. Научный редактор Те Юйцинь. Шэньян: Ляо шэнь шушэ (Книжный издательство «Ляо шэнь»). 26.
- Циндай мэнгуцзу жэньу чжуаньцзи цзыляо соинь (Подборка материалов с жизнеописанием выдающихся монголов цинского периода), 1998. Хух-Хото: Нэймэнгу дасюэ чубаньшэ (Издательство Университета Внутренней Монголии). 27.
- Чжан Дэцзэ, 2001. Циндай гоцзя цзигуань каолюэ (Разыскания о системе государственной власти в цинский период). Пекин: Сюэюань чубаньшэ (Издательство «Сюэюань»). 28.
- Чжан Сяоли, 2011. Цяньлун сюэ юйянь ( Цяньлун изучает языки)//Цзыц-зиньчэн. № 3. С. 48-49. 29.
- Чжу Юсянь, 1983. Чжунго цзиньдай сюэч-жи шиляо (Исторические источники по системе образования в Китае в Новое время). Первое издание. Т. I. Шанхай: Хуадун шифань дасюэ (Издательство Во сточно-китайского педагогического университета). 30.
- Юань Чжэн, 1998. Цзяохуа юй лии. Сюэсяо чжи (Образование и ритуал. Учебные заведения). Т. V. Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ (Шанхайское народное издательство). 31.
- Wild, N., 1945. Materials for the study of the Ssu i Kuan (Bureau of Translators). Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 11, no. 3, pp. 617-640.