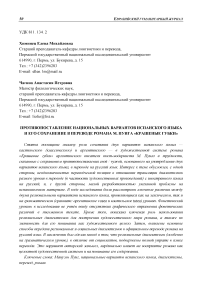Противопоставление национальных вариантов испанского языка и его сохранение в переводе романа М. Пуига "Крашеные губки"
Автор: Химинец Елена Михайловна, Чагина Анастасия Петровна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Переводоведение
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу роли сочетания двух вариантов испанского языка - кастильского (классического) и аргентинского - в художественной системе романа «Крашеные губки» аргентинского писателя пост-модерниста М. Пуига и трудности, связанные с сохранением противопоставления свой / чужой, основанного на употреблении двух вариантов испанского языка, в переводе на русский язык. Интерес к теме обусловлен, с одной стороны, неоднозначностью переводческой позиции в отношении трансляции диалектизмов разного уровня в переводе (в частности художественных произведений) с иностранного языка на русский, и, с другой стороны, малой разработанностью указанной проблемы на испаноязычном материале. В ходе исследования были рассмотрены ключевые различия между двумя региональными вариантами испанского языка, проявляющиеся как на лексическом, так и на грамматическом (сравните: аргентинское voseo и кастильское tuteo) уровнях. Фонетический уровень в исследовании не учтён ввиду отсутствия графического отражения фонетических различий в письменном тексте. Кроме того, показана ключевая роль использования региональных диалектизмов для построения художественного мира романа, а также их значимость для его понимания как художественного целого. Затем, выявлены основные способы передачи региональных и социальных диалектизмов в официальном переводе романа на русский язык. В заключении был сделан вывод о том, что региональные диалектизмы (особенно на грамматическом уровне), в отличие от социолектов, подвержены полной утрате в языке перевода. Это нарушает авторский замысел, кардинально влияет на восприятие романа как целостной художественной системы и на понимание его содержания.
Мануэль пуиг, национальные варианты испанского языка, диалектизмы, перевод, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147229845
IDR: 147229845 | УДК: 811.
Текст научной статьи Противопоставление национальных вариантов испанского языка и его сохранение в переводе романа М. Пуига "Крашеные губки"
Испанский язык в настоящее время является одним из самых распространённых в мире и имеет статус государственного почти в двух десятках стран, преимущественно Южной и Центральной Америки. Латиноамериканский вариант испанского языка, с одной стороны, подвергся влиянию языков автохтонного населения, с другой — оказался более консервативным в сравнении с классическим кастильским вариантом и сохранил некоторые архаичные черты. Всё это привело к формированию ряда национальных вариантов испанского языка, которые отличаются от кастильского не только на лексическом и фонетическом уровнях, но и на грамматическом. Несмотря на достаточную изученность вопроса (В. С. Виноградов, С. П. Мамонтов, М. М. Манатина, Г. В. Степанов, Н. М. Фирсова и другие), перевод диалектных особенностей испанского языка в художественном произведении по-прежнему представляет трудность, т. к. контраст между диалектами зачастую играет важную роль в художественной системе произведения, но не всегда может быть сохранён средствами языка перевода (далее - ЯП) в виду отсутствия в нём подобного противопоставления. Кроме того следует учитывать такие трудности художественного перевода как гетерогенность сознания автора и переводчика, языки, литературные традиции, культуры, дистанцию во времени и связанные с пониманием и передачей на языке перевода единства идейности, эмотивности, образности и художественной формы оригинала [Шутёмова, 2018, с. 49].
Основная часть
Второй роман аргентинского писателя М. Пуига (Manuel Puig; 1932-1990 гг.) «Крашеные губки» («Boquitas Pintadas») вышел в свет в 1969 г. Как и другие произведения писателя, он автобиографичен и наполнен отсылками к массовой культуре и в особенности — кинематографу [Levine, 2012, р. 50-51]. Общая кинематографичность романов М. Пуига проявляется, прежде всего, в драматизации повествования через обилие диалогов, которые часто являются основной композиционной формой речи персонажей, а отсутствие повествователя лишь усиливает эффект. В связи с этим прямая речь становится основой всего романного текста. Вкрапления вставных историй в повествовательную ткань романа также является отличительным художественным приёмом автора [Чагина, 2017, с. 116-122].
В связи с этим наше внимание привлекла тринадцатая глава [Puig, 2000, р. 82-89; Пуиг, 2007], в которой разворачивается диалог между двумя давними подругами (Нене и Мабель), повзрослевшими и покинувшими свой маленький городок, где остались их надежды и мечты. В беседу героинь органично вплетается радиотрансляция сериала, своеобразной «мыльной оперы», целевой аудиторией которой являются домохозяйки. Сюжет вставной истории разворачивается в Европе в военное время и повествует о роковой любви между замужней девушкой и раненным солдатом. Примечательно, что актёры озвучивания говорят на кастильском (классическом) испанском языке, в то время как действие романа разворачивается в Аргентине и герои используют аргентинский национальный вариант испанского языка.
Представляется, что контраст между вариантами испанского языка играет важную художественную роль, так как через него раскрывается ряд противопоставлений (свой / чужой, прошлое / настоящие, любовь / отсутствие любви и т. д.). Заметим, что развитие романа через конструкцию и, часто, деконструкцию дихотомий является характерным для творчества М. Пунта, например, так построен его четвёртый роман «Поцелуй женщины-паука» («Е1 Beso de la Mujer Arana», 1976 г.) [Drozdo, 1999]. To же свойственно и роману «Крашеные губки». Обратимся к сюжету тринадцатой главы. Спустя долгие годы две главных героини (из четырёх) вновь встречаются за чашечкой мате на кухне у одной из них как в старые времена. Обе в молодости были влюблены в одного и того же юношу, но любовь оказалась несчастной из-за его болезни — ему пришлось уехать на лечение в Испанию. Иначе говоря, Испания — это своеобразный символ расставания и несчастной любви, любви настоящей и недостижимой, ведь обе девушки по-прежнему хранят к нему чувства, хотя и замужем за другими. Вместе с тем это и ностальгия по молодости, по ушедшим дням, по упущенным возможностям:
- Nend, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ^Y no es la verdad? [Puig, 2000, p. 83] / — Нене, говорят: любая ушедшая пора лучше была. Разве это не правда? [Пуиг, 2007].
- Mabel, no me digas que hay algo mas hermoso que estar enamorada [Puig, 2000, p. 85] / — Мабель, скажи, ведь самое прекрасное, когда ты влюблена [Пуиг, 2007].
Кроме того, М. Пуиг вкладывает своё нелестное мнение об аргентинской индустрии кино в сравнении с голливудской и европейской (здесь кинематограф заменяет радиотрансляция) [Weisman, 1985, р. 2-3] в уста своих героев. Так, Нене боится откровенно высказать своё мнение подруге, потому как помнит о её негативном отношении к аргентинским актрисам:«recordabа que a Mabel no le gustaban las actrices argentinas» [Puig, 2000, p. 85] / «памятуя о том, что Мабели не нравились аргентинские актрисы» [Пуиг, 2007]. А фильмы местного производства смотрят только в безвыходных ситуациях, когда других вариантов не осталось: «peliculas nacionales solo veia en Vallejos, cuando no habia otra cosa que hacer» [Puig, 2000, p. 59] / «отечественные фильмы она смотрела только в Вальехосе, от нечего делать» [Пуиг, 2007]. В целом аргентинские фильмы интересуют только публику победнее и попроще, например, другая героиня романа, Раба (или Гузя в русском переводе), девушка из простой бедной семьи, с удовольствием посещает такие сеансы, так как подобные фильмы о служанках, нашедших своё счастье, гораздо ближе ей по духу: «Rabapenso en la pelicula argentina que habia visto el viernes anterior, con su actriz-cantante favorita, la historia de una sirvienta de pension que se enamora de un pensionista estudiante de abogacia. 6C6mo habia logrado que ё! se enamorase de ella?» [Puig, 2000, p. 37] / «Гузя подумала об аргентинском фильме, виденном в прошлую пятницу, с её любимой актрисой-певицей, — о служанке из пансиона, которая влюбляется в жильца-студента, будущего адвоката. Как ей удалось добиться его любви?» [Пуиг, 2007].
Очевидно, что использование диалектных вариаций испанского языка (социальных и региональных) в романе поддерживает ряд ключевых для понимания произведения дихотомий, как это уже было отмечено ранее. Следовательно, передача диалектных различий важна для сохранения авторского замысла и воссоздания художественного мира романа в тексте перевода (далее - ПТ). Сегодня переводчики художественной литературы часто сталкиваются с различного рода диалектами, играющими роль основного художественного средства. Многочисленные исследования на тему решения подобных трудностей приводят чаще всего к заключению о том, что основным и главным переводческим средством в таких случаях является компенсация, а задача переводчика состоит в воссоздании художественного образа языка, которая должна позволить читателю увидеть в языке то, что задумывал автор [Мячинская, 2016].
Рассмотрим подробнее отличие аргентинского национального варианта испанского языка от кастильского варианта. Во-первых, указанные варианты испанского языка отличаются на лексическом уровне. Латиноамериканский испанский изобилует англицизмами и заимствованиями из языков автохтонного населения, и аргентинский вариант испанского не является исключением. Так, в рассматриваемой главе в диалоге Мабель и Нене мы встречаем множество лексем, характерных для латиноамериканского варианта испанского языка (che, petiso, living и др). А диалог солдата и девушки из вставной истории соответствует кастильскому варианту. В переводе же этот контраст зачастую теряется, сохраняются лишь социолекты. Например, междометие che, характерное лишь для испанского языка ряда стран Латинской Америки, передаётся русским общеупотребительным междометием ой. Лексемы chiche и petiso также утрачивают свою региональную специфику и переводятся разговорными словами и словосочетаниями, как и англицизм living;
- Sera un chiche - Поди, конфетка
-No, para que, es un petiso mal hecho... - Нет, зачем, он нескладный коротышка...
hacerla dormir en el living укладывать ее спать в гостиной
Однако заметим, что в оригинале речь героинь романа имеет более разговорный характер и полна просторечий, в то время как персонажи радиосериала придерживаются литературного языка. Таким образом, на лексическом уровне дихотомия свой/чужой поддерживается за счёт социальных различий в языке, но полностью утрачивает различия региональные.
Диалог героинь романа:
- Но они такие крепыши...Ты часто выходишь в город?
- Нет, куда я пойду с этими двумя, если они без конца ревут-хнычут? или......Заведи детей, сама увидишь.
- Не будь у тебя их, ты бы о них мечтала, не жалуйся
Диалог героев вставной истории:
- Пьер, это я, не бойся...
- Мари...так рано.
- Пьер, не бойся...
- Единственное, чего я боюсь, это грезить, пробудиться и больше не увидеть тебя...там...твой силуэт в дверном проеме, а за тобою — мерцанье розоватое души...
Другим немало важным отличием является грамматика аргентинского варианта испанского языка. Наряду с испанским Парагвая и Уругвая аргентинский вариант сохранил архаичную форму vos, используемую вместо формы личного местоимения единственного числа второго лица tu. Отличаются и формы спряжения глаголов в настоящем времени изъявительного наклонения и в повелительном наклонении для второго лица единственного числа. Эта особенность является характерной и показательной для носителей испанского языка в любой его вариации. Как было отмечено ранее, преобладающей композиционной формой в романах М. Пуига является именно диалог, в котором частотно использование второго лица единственного числа. Например:
Аргентинский вариант испанского:
- j. Sos feliz?
-Y vos, contame de vos.^queres tener muchos chicos?
Кастильский вариант испанского:
- No, Marie, lu no puedes hacerme dano, eres demasiado dulce para ello.
- Pierre, dejame cambiarte la venda.
Аргентинский вариант испанского:
- Ты счастлива?
- Ну а ты про себя-то расскажи... много детей хочешь?
Кастильский вариант испанского:
- Нет, Мари, ты не можешь причинить мне боль, ты слишком нежна для этого.
- Пьер, дай сменю тебе повязку.
В переводе же такое значимое и значительное отличие между грамматиками двух вариантов испанского языка полностью исчезает. Вместе с тем исчезает и противопоставление двух культур — Аргентины и Испании. Утрачивается очевидная связь между вымышленной историей настоящей любви из радио-сериала и отъездом Хуана Карлоса, возлюбленного обеих девушек, в Испанию. Иными словами, Испания перестаёт быть тем краеугольным камнем, символом любви и молодости с одной стороны, и чем-то чуждым далёким с другой, частично стирается дихотомия свой / чужой. Из-за чего страдает как художественная составляющая произведения в ПТ, так и содержательная.
Добавим, что аргентинский и кастильский варианты испанского отличаются и на фонетическом уровне, однако это отличие никак не отражено в романе графически, а потому не играет роли в переводе конкретного произведения.
Заключение
Согласно сложившейся традиции, диалектизмы, релевантные для понимания художественного произведения, в ПТ передаются преимущественно с помощью компенсации и лексических эквивалентов. Однако заметим, что если социальные особенности ещё поддаются воспроизведению на ЯП, то региональные отличие представляют собой практически неразрешимую трудность, поскольку не имеют эквивалента в ЯП и не могут быть транслированы в ПТ. А потому многие смыслы, очевидные для носителя ЯО и представителя исходной культуры безвозвратно утрачиваются для читателя перевода.
Список литературы Противопоставление национальных вариантов испанского языка и его сохранение в переводе романа М. Пуига "Крашеные губки"
- Виноградов В. С. Лексикология испанского языка. Москва: Высшая школа, 2003. 246 с.
- Мамонтов С. П. Испанский язык. Историко-лингвистический очерк. Москва: Наука, 1966. 45 с.
- Манатина М. М. Особенности испанского языка стран Латинской Америки. Москва: Энциклопедия, 2016. С. 177-181.
- Мячинская Э. И. Диалектно-разговорные элементы английского литературного текста и их передача на русский // Перевод и сопоставительная лингвистика. 2016. № 12.
- Пуиг М. Крашеные губки / Пер. с исп. А. Казачков, ред. Е. Пучкова. Москва: Флюид, 2007. 240 с.