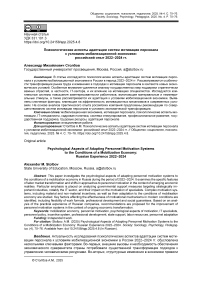Психологические аспекты адаптации систем мотивации персонала к условиям мобилизационной экономики: российский опыт 2022–2024 гг.
Автор: Столбов А.М.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются психологические аспекты адаптации систем мотивации персонала к условиям мобилизационной экономики в России в период 2022-2024 гг. Рассматриваются особенности трансформации рынка труда и изменения в подходах к мотивации персонала в контексте новых экономических условий. Особенное внимание уделяется анализу государственных мер поддержки стратегически важных отраслей, в частности, IT-сектора, и их влиянию на мотивацию специалистов. Исследуются комплексные системы повышения заинтересованности работников, включающие материальные и нематериальные стимулы, а также рассматривается их адаптация к условиям мобилизационной экономики. Выявлены ключевые факторы, влияющие на эффективность мотивационных механизмов в современных условиях. На основе анализа практического опыта российских компаний предложены рекомендации по совершенствованию систем мотивации персонала в условиях экономической трансформации.
Мобилизационная экономика, мотивация персонала, психологические аспекты мотивации, it-специалисты, кадровая политика, система стимулирования, профессиональное развитие, государственная поддержка, трудовые ресурсы, адаптация персонала
Короткий адрес: https://sciup.org/149148337
IDR: 149148337 | УДК: 331.101.3 | DOI: 10.24158/spp.2025.4.8
Текст научной статьи Психологические аспекты адаптации систем мотивации персонала к условиям мобилизационной экономики: российский опыт 2022–2024 гг.
к значительным сдвигам на рынке труда, включая возросшую потребность в специалистах инженерно-технического профиля и IT-сферы при одновременном спаде спроса на специалистов в ряде других отраслей, что требует новых подходов к мотивации персонала.
Особую значимость исследованию придает проблема оттока квалифицированных кадров и удержания специалистов. Актуальность также обусловлена необходимостью изучения успешного опыта государственного участия в формировании мотивационных механизмов. Исследование психологических аспектов адаптации систем мотивации в условиях мобилизационной экономики России опирается на классические теории, требующие пересмотра в контексте коллективных задач. Двухфакторная модель Ф. Герцберга (Герцберг и др., 2006) и теория справедливости Дж.С. Адамса сохраняют актуальность, но акцент смещается с индивидуальных стимулов на групповые ценности. Эмпирические данные выявляют ключевые тенденции: рост неэкономических факторов мотивации (автономия, осмысленность труда) на фоне повышения зарплат в военно-промышленном комплексе (ВПК), возросшую необходимость в сплочении коллективов, а также трудовой дефицит как вызов для HR-стратегий. Остаются малоизученными особенности мотивации у работников различных технических отраслей, долгосрочное влияние экономической и общественной нестабильности на психоэмоциональное состояние сотрудников.
Мобилизационная экономика оказывает влияние на психологическое состояние общества. В российском контексте 2022–2024 гг. этот феномен проявился через несколько аспектов: 1) рост тревожности среди населения, начавшийся еще в пандемию, отсутствие готовности к изменениям, вызванными государственными решениями (риск потери работы, снижение доходов и недоступность привычных услуг); 2) поляризация мнений по вопросу украинского конфликта, распад деловых сообществ и трудовых коллективов, значительная дезорганизация в деловых отношениях; 3) снижение субъектности личности, выражающееся в утрате понимания своего места в социуме; 4) широкое внедрение дистанционного формата работы и преодоление сопряженных с ним трудностей (изменение мотивации сотрудников, ощущение диффузности рабочего процесса в пространстве дома) (Южакова, 2022).
Принцип дискретности мобилизационной экономики предполагает, что длительное сохранение такого режима неизбежно приведет к выгоранию субъектов из-за условий, требующих чрезмерного физического и психического напряжения. Парадоксально, но сама необходимость мобилизации сталкивается с кризисом мотивации, при котором 45 % работников демонстрируют пассивность даже в критических отраслях (Щепакин и др., 2023). Таким образом, проблема адаптации систем мотивации в данных условиях является особенно актуальной.
В контексте трансформации экономики и рынка труда особенно важным становится исследование психологических аспектов мотивации, поскольку традиционные подходы к стимулированию персонала показывают себя недостаточно эффективными. Необходимость разработки и реализации новых способов мотивации, учитывающих как материальные, так и нематериальные факторы, включая потребность в профессиональном развитии, ощущении стабильности, защищенности, подконтрольности рабочего процесса, толерантности к неопределенности, делает данное исследование крайне значимым.
Анализ актуальных данных, полученных из материалов, опубликованных в медиапространстве, проводился на основе теоретических разработок, представленных классическими моделями мотивации: двухфакторной теорией Ф. Герцберга, рассматривающей значимость сочетания базовых факторов (стабильность оплаты, безопасность труда) с мотивирующими элементами (профессиональный рост, признание заслуг); теорией справедливости С. Адамса, анализирующей соотношение индивидуального вклада сотрудников и коллективных результатов организации в условиях мобилизационных задач (Шакртдинова и др., 2020).
Специфика российского контекста заключается в адаптации традиционных подходов к мотивации в условиях мобилизационной экономики. Основным психологическим механизмом адаптации систем мотивации становится трансформация индивидуальных стимулов в коллективные ценностные ориентиры, фокус внимания на вовлеченность, личностную значимость трудового процесса, командную динамику и формирование групповой сплоченности (Исаев, 2018).
Исследование психологических аспектов адаптации систем мотивации персонала к условиям мобилизационной экономики в России 2022–2024 гг. базируется на анализе кейсов российских компаний: IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, предприятий нефтегазовой (например, ПАО «Сибур»), энергетической отраслей («Мосэнерго», «Ленэрго»), которые реорганизовывали системы мотивации в условиях кризиса. Дополнительно изучены изменения в трудовом законодательстве и корпоративных регламентах, связанные с переходом к мобилизационной модели. Анализ информации проводился на основе материалов, представленных в медиа- и научных статьях за период 2020–2024 гг.
Мобилизационная экономика. Концепция мобилизационной экономики не ограничивается реакцией на военные или экстренные ситуации. Она охватывает комплексное противодействие различным вызовам современности. Такой подход к экономическому управлению значительно шире, чем просто усиление военного потенциала или развитие оборонной промышленности. По сути, это активация и интенсификация всех экономических процессов. Концентрация и оптимизация ресурсов для противостояния внешним и внутренним угрозам становятся ключевыми инструментами в условиях мобилизационной экономики (Мобилизационная экономика: теоретико-практический аспект ..., 2023).
Современная Россия впервые столкнулась с элементами мобилизационной экономики во время борьбы с COVID-19. Этот период характеризовался целевым распределением ресурсов, развитием внутреннего производства критически важных товаров, расширением государственного регулирования и гибкостью в управлении бюджетом.
Мотивация . Мотивация представляет собой многогранный психологический феномен, формирующийся под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов, включая как биологические, так и социальные аспекты человеческого поведения. В контексте управления персоналом мотивация может рассматриваться как процесс побуждения себя и других к действиям, направленным на достижение личных или коллективных целей.
В рамках концептуальных основ мотивация трактуется как система, инициирующая, направляющая и поддерживающая профессиональную активность. Существует разделение на внутреннюю мотивацию, основанную на самоценности деятельности, и внешнюю, зависящую от стимулов. С помощью теории самодетерминации выделены три базовые потребности: автономия как контроль над действиями, мастерство как стремление к компетентности и связанность как социальная интеграция (Latham, Budworth, 2020).
Классические модели мотивации включают иерархию потребностей А. Маслоу, которая описывает поэтапное удовлетворение нужд от базовых (физиологических) до высокоуровневых (самоактуализации) (Маслоу, 2013). Сквозь призму трудовых процессов это можно интерпретировать через приоритет безопасности труда над креативными задачами. Двухфакторная теория Ф. Герц-берга разделяет гигиенические факторы, такие как зарплата и условия труда, и мотиваторы, включая признание и профессиональный рост (Герцберг и др., 2006). Отсутствие первых вызывает неудовлетворенность, наличие вторых – вовлеченность. Теория ожиданий В. Врума (Vroom, 1964) связывает мотивацию с верой в достижимость целей, инструментальностью как интеграции усилий и вознаграждения, а также валентностью – субъективной ценностью результата (Южакова, 2022). Современные подходы к мотивации включают концепцию достижений, предполагающую потребность в успехе, власти и аффилиации (Макклелланд, 2007). Психологический капитал (Luthans et al., 2006) объединяет самоэффективность, оптимизм, надежду и устойчивость – эти элементы формируют «ресурсную базу» для трудовой активности.
Формирование мотивации . Современная система мотивации персонала базируется на комплексном подходе, включающем как материальные, так и нематериальные инструменты стимулирования.
Процесс формирования мотивации можно охарактеризовать как сложную систему взаимодействий, в рамках которой происходит интеграция социальных норм, ценностей и поведенческих моделей, специфичных для конкретной профессиональной среды. На формирование мотивационной системы оказывают влияние многочисленные факторы: персональные характеристики работника, культурно-национальный контекст трудовой деятельности, социально-экономическое положение, образовательные возможности в выбранной профессиональной области, представления о траектории карьерного развития, потребность в признании профессиональных достижений и личного вклада.
Адаптация систем мотивации персонала к условиям мобилизационной экономики в России 2022–2024 гг. сопровождалась следующими изменениями – сочетанием финансовых стимулов с социально-психологическими методами, такими как анализ личной мотивации, внедрение наставничества, организации трудовых процессов в дистанционном формате, повышение автономности сотрудников, формирование личностной значимости труда и вовлеченности (Комарова, 2022).
Особенного внимания заслуживает тенденция к повышению гибкости рабочего формата. Условия труда стали одним из ключевых факторов мотивации в современных организациях, существенно влияющим на удовлетворенность работников. Начиная с 2020 г., наблюдается массовый переход на дистанционный формат работы, что позволяет сотрудникам получить большую автономию в планировании рабочего времени. Самостоятельность в планировании рабочего времени напрямую связана с базовыми потребностями в теории самодетерминации – возможностью контролировать трудовую деятельность, развивать мастерство и поддерживать социальные связи в виртуальной среде. Следствием перехода на дистанционный формат является снижение стресса от ежедневных поездок на место работы, появление возможности оптимизировать рабочий процесс в соответствии с индивидуальными функционированием, привычками, распорядком дня.
Однако гибкие форматы труда создают комплекс вызовов, которые требуют внимания. Сотрудники часто сталкиваются с размыванием границ между личной жизнью и работой: домашняя обстановка ассоциируется с офисом, что способствует выгоранию работников, повышению уровня психоэмоционального напряжения из-за смешения этих сфер. С одной стороны, некоторые специалисты продолжают отвечать на рабочие сообщения поздним вечером, а страх «выпасть из процесса» заставляет их сокращать время отдыха даже при наличии определенных рамок. С другой стороны, чрезмерная свобода выбора режима работы становится испытанием для тех, кто не умеет самоорганизовываться. Например, сотрудники без навыков тайм-менеджмента часто срывают сроки, а отсутствие внешнего контроля может снижать качество выполненной ими работы. Сотрудники с типом личности, склонным к жизни по внешнему распорядку и зависящим от стороннего контроля могут оказаться ненадежными и безответственными работниками в ситуации, когда получают слишком много автономии и гибкости в трудовом процессе (Sitopu et al., 2021).
Снижение живого общения в коллективе ведет к недопониманию и атомизации (Basalamah, As’ad, 2021). Вместо быстрого обсуждения идей в кулуарах офиса сотрудники переходят на длинную цепочку писем или сообщений, где отсутствие интонаций и невербальных сигналов увеличивает риск конфликтов, недопониманий, межличностной напряженности, приводит к ошибкам в проектах, которые можно было бы предотвратить при личном взаимодействии.
Для смягчения этих проблем компании экспериментируют с решениями: вводят «цифровые комендантские часы» для защиты личного времени, внедряют инструменты анализа эмоционального тона сообщений, организуют виртуальные пространства для неформального общения, используют программы развития «мягких» навыков. Гибкость требует баланса: например, сочетания свободного графика с четкими правилами коммуникации, обязательного использования технологий видеозвонков для создания эффекта присутствия в коллективе. Ключевой момент – трансформация корпоративной культуры, где свобода не становится ловушкой, а технологии дополняют, а не заменяют человеческое взаимодействие.
В практике российских компаний, особенно в крупных корпорациях энергетического сектора, таких как ОАО «Мосэнерго» и «Россети Ленэнерго», внедрены программы наставничества, где опытные сотрудники получают существенные доплаты (до 15 % от оклада за период обучения и до 25 % за каждого обучаемого) за наставничество и передачу профессиональных знаний молодым специалистам. Такой подход способствует повышению профессиональной самооценки наставников, подчеркивает их значимость в развитии компании и подготовке нового поколения специалистов (Бондаренко, Пржедецкая, 2024). При сочетании смысловой нагрузки труда, соответствующей личным ценностям, и системы развития компетенций формируется устойчивая мотивация как у опытных сотрудников, так и у новичков в профессии. Например, программы наставничества повышают вовлеченность сотрудников в производственный процесс за счет удовлетворения потребности в мастерстве у опытных специалистов, а у начинающих – снижают уровень тревожности, связанный с интенсивным накоплением трудового опыта, необходимостью адаптироваться в новом коллективе и устанавливать деловые отношения, продолжением процесса формирования профессиональной идентичности.
Наставничество в профессиональной адаптации способствует снижению уровня психоэмоционального напряжения у начинающих специалистов посредством двух ключевых механизмов: формирования системы коллегиальной поддержки и структурирования трудовых функций. Данный подход минимизирует состояние дезориентированности, характерное для начальных этапов профессиональной социализации, исключая необходимость автономного освоения профессиональных компетенций в условиях неопределенности. Таким образом, можно утверждать, что за счет данного аспекта адаптации системы мотивации к мобилизационной экономике снижается текучесть кадров из-за повышения субъективного ощущения предсказуемости профессионального пути, удовлетворенности им, мастерства, востребованности, поддержании социальных связей, аффилиации. Репутация компаний, инвестирующих в создание благоприятных отношений внутри коллектива, работает как магнит для талантов, усиливая как внешний бренд, так и внутреннюю лояльность.
Стратегия удержания персонала через мотивацию становится ключевым фактором организационной устойчивости в условиях кадрового дефицита. Ее суть – системное поддержание лояльности сотрудников не реактивными мерами, а продуманной интеграцией мотивационных инструментов на всех этапах трудового цикла: от адаптации до карьерного развития. Принципиальное отличие адаптации мотивационных систем под текущие реалии – смещение акцента с удовлетворенности на вовлеченность. Если первая обеспечивает базовую лояльность, то вторая – создает осознанную привязанность: вовлеченные сотрудники не просто выполняют задачи, а продолжают поддерживать профессиональные отношения, тем самым удовлетворяя ряд потребностей (например, в уважении, принятии, творчестве, самоактуализации). Такие работники устойчивы к финансовым соблазнам конкурентов, становясь живым барьером против текучести кадров и основой организационной устойчивости (Нарожная, 2024).
Однако большая часть организаций по-прежнему полагается на повышение зарплат, игнорируя «эффект плато» финансовых стимулов. Устаревают и шаблонные льготы – бесплатный кофе или корпоративные скидки уже не влияют на вовлеченность (Мотовиц, 2024). Эти обстоятельства можно объяснить феноменом гедонической адаптации: сотрудники быстро привыкают к бонусам, переставая их ценить. Такие стимулы работают только на начальном этапе, как «крючок» для привлечения кадров, но не удерживают таланты. Более того, согласно теории самоопределения, избыток внешних наград может подрывать внутреннюю мотивацию.
В контексте мобилизационной экономики особый интерес представляет анализ государственного участия в формировании мотивационных механизмов на примере IT-сектора. Массовый отток высококвалифицированных кадров создал серьезную угрозу для развития отрасли и экономической стабильности страны в целом. В этих условиях разработка эффективных стратегий привлечения и удержания IT-специалистов приобрела критическую важность, учитывая специфику их профессиональной мотивации, существенно отличающуюся от традиционных отраслей (Кучина, 2022).
Введение налоговых льгот, ипотечных программ и бронирования от мобилизации (Петров, 2023) направлено на удовлетворение базовых потребностей, по А. Маслоу (Маслоу, 2013), – безопасности и физиологического выживания, что критически важно в контексте геополитической нестабильности. Такие гарантии сохранения рабочего места и защищенности снижают уровень психоэмоционального напряжения, позволяя сотрудникам фокусироваться на профессиональных задачах вместо поиска путей эмиграции. Однако акцент на материальных стимулах создает риск «эффекта плато»: зарплата и бонусы не устраняют дефицит внутренней мотивации – потребности в автономии, профессиональном росте или осмысленности труда.
Специальная военная операция на Украине обострила когнитивный диссонанс у специалистов, вынужденных балансировать между лояльностью к государству (в обмен на преференции) и этическими дилеммами. Некоторые работники перешли в самозанятость из-за желания дистанцироваться от институтов, ассоциируемых с мобилизацией. При внешнем давлении специалисты стремятся к восстановлению контроля над своей деятельностью. Парадоксально, но господдержка, снижая текучесть кадров, одновременно провоцирует рост «скрытой миграции» – удаленной работы на зарубежные компании. Стабилизация IT-рынка достигнута за счет сверхкомпенсации базовых потребностей, но устойчивость этой модели зависит от способности государства и компаний перейти к комплексной мотивационной стратегии. Ключевой вызов – трансформировать вынужденную лояльность в осознанную вовлеченность.
Двусторонняя коммуникация между руководством и персоналом усиливает эффект адаптации. Практические кейсы, информация о которых опубликована в медиа, демонстрируют следующие результаты: стартап iPerks разработал ИИ1-платформу для персонализации льгот, где система анализирует запросы сотрудников и предлагает оптимальные варианты поощрений2. В данной ситуации мы считаем, что алгоритмы усиливают автономию выбора и справедливость вознаграждения, повышая вовлеченность. Двусторонняя коммуникация здесь работает через влияние сотрудника на решения, что активирует «эффект соавторства». Но автоматизация несет в себе риски: замена личных встреч ИИ создает «эффект стеклянной стены», подрывая доверие в деловых отношениях. Следует помнить, что использование искусственного интеллекта является лишь инструментом, а финальное решение согласуется между реальными людьми в процессе делового общения.
Другим примером адаптации мотивационных систем служит практика RIS Group, где внедрение расширенного добровольного медицинского страхования (ДМС) и программы заботы, удовлетворяющих базовые потребности, повысило уровень лояльности сотрудников3. Коммуникационное агентство реформировало систему мотивации через оплату такси для сотрудников, задерживающихся после работы, внедрение тематических дней с розыгрышами призов. Снова хотелось бы подчеркнуть, что материальные бонусы эффективны как краткосрочные стимулы, однако длительная приверженность формируется через идентификационные выгоды – чувство гордости за компанию, эмоциональную связь с коллективом.
Внедрение тематических дней и других похожих мероприятий активирует социальные мотиваторы: потребность в аффилиации и признании. Возникают позитивные ассоциации с рабочим процессом. Однако ключевой эффект достигается за счет символического обмена: сотрудники воспринимают заботу компании как знак уважения, что формирует взаимные обязательства.
Например, оплата такси, переработок сигнализирует: «Ваше время и комфорт ценят», что удовлетворяет потребность в уважении.
Данные примеры иллюстрируют переход от унифицированных систем к персонализированным решениям, где психологические аспекты становятся основой для построения мотивационных стратегий. Примеры систем мотиваций, реализованных за период 2022–2024 гг., демонстрируют, что адаптация их должна происходить с учетом установления баланса между индивидуальными характеристиками работника и корпоративной средой.
Заключение . Проведенное исследование психологических аспектов адаптации систем мотивации персонала в условиях мобилизационной экономики России 2022–2024 гг. позволило выявить ключевые закономерности и механизмы, определяющие эффективность управления человеческими ресурсами в кризисных условиях. Во-первых, мобилизационная экономика, ориентированная на концентрацию ресурсов для противодействия внешним и внутренним вызовам, потребовала трансформации традиционных подходов к мотивации. Основным психологическим механизмом адаптации стала переориентация с индивидуальных стимулов на коллективные ценностные ориентиры, что проявилось в акценте на вовлеченность, личностную значимость труда, командную сплоченность и формирование общей миссии.
Во-вторых, структурные изменения рынка труда, включая кадровый дефицит в стратегических отраслях (IT, энергетика, нефтегазовый сектор) и миграцию специалистов, актуализировали психологическую составляющую мотивационных мер. Гибридные системы, объединяющие государственные гарантии (налоговые льготы, защита от мобилизации) и корпоративные программы развития (наставничество, гибкий график), направлены не только на обеспечение базовой безопасности (Маслоу, 2013), но и на удовлетворение высших потребностей – автономии, профессиональной самореализации и социальной аффилиации. Например, программы наставничества в энергетических компаниях, предусматривающие доплаты за обучение новичков, повышают самооценку опытных сотрудников и снижают тревожность молодых специалистов, укрепляя их привязанность к компании. Однако чрезмерный акцент на внешних стимулах, согласно теории самоопределения, может снижать внутреннюю мотивацию, смещая фокус с качества работы на формальные критерии. Поэтому ключевым становится баланс: материальные факторы (стабильная зарплата) создают основу лояльности, но долгосрочная вовлеченность формируется через осмысленность труда, профессиональный рост и поддержку коллегиальных связей, что особенно критично в условиях мобилизационной экономики, провоцирующей эмоциональное выгорание и снижение субъектности работников.
Таким образом, сегодня психологическая устойчивость персонала становится стратегическим ресурсом. Дальнейшее совершенствование систем мотивации должно опираться на гибкость, учет вовлеченности сотрудников, создание среды, где материальные стимулы подкрепляются смысловой нагрузкой труда, что особенно актуально для сохранения кадрового потенциала в долгосрочной перспективе.