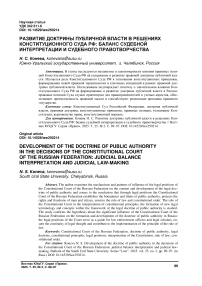Развитие доктрины публичной власти в решениях Конституционного суда РФ: баланс судебной интерпретации и судебного правотворчества
Автор: Конева Н.С.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются механизмы и закономерности влияния правовых позиций Конституционного Суда РФ на содержание и развитие правовой доктрины публичной власти. Изучается роль Конституционного Суда РФ в толковании конституционных принципов, формировании новой правовой терминологии и ключевых концепций в рамках правовой доктрины публичной власти. Исследование подтверждает гипотезу о значительном влиянии Конституционного Суда РФ на формирование и развитие доктрины публичной власти в России: правовые позиции Суда служат ориентиром для правоприменителей и ученых-юристов, обеспечивают преемственность правовой мысли и способствуют реализации принципа правового государства.
Конституционный суд российской федерации, доктрина публичной власти, правовая доктрина, конституционные принципы, правовые позиции, толкование конституции, верховенство права, конституционный порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/147251186
IDR: 147251186 | УДК: 342.511.6 | DOI: 10.14529/law250214
Текст научной статьи Развитие доктрины публичной власти в решениях Конституционного суда РФ: баланс судебной интерпретации и судебного правотворчества
Проблематика исследования . В контексте нормативно-доктринального развития правовой системы конституционные суды играют ключевую роль не только как институт правосудия, но и как значимый участник правотворчества. Одним из инструментов, используемых конституционными судами для адаптации и развития правовой системы, становится формирование в рамках вырабатываемых правовых позиций ключевых категорий и концепций правовой доктрины.
При этом, помимо решений, в которых определение природы публичной власти – это главный, ключевой вопрос, Конституционный Суд РФ обращается и к иным юридическим конструкциям публично-властной сферы и сферы властеотношений в своих решениях, актах толкования, наполняя содержанием отдельные структурные элементы системы публичной власти.
Н. С. Бондарь отмечает: «По самой природе, существенным характеристикам и результатам деятельность КС РФ не исчерпывается правоприменением. Она имеет значительно более сложный характер: получая институционное оформление, прежде всего как правоприменительный юрисдикционный процесс, конституционное правосудие – и это становится все более очевидным для отечественной юриспруденции – в своих итоговоправовых характеристиках сближается с нор-мативно-установительной юридической практикой, с правотворчеством» [4, с. 75–76]. Т. М. Пряхина также считает, что «Конституционный Суд России играет роль признанного центра, генерирующего основные положения конституционной доктрины, что отражает общую закономерность, характерную для всех государств, наделивших власть полномочиями судебного нормоконтроля» [12, с. 170].
Предположение о значимой роли Конституционного Суда РФ в формировании и развитии правовой доктрины публичной власти основано на признании того, что правовые позиции, отраженные в постановлениях и определениях Суда, устанавливают пределы и границы публичной власти, защищают права и свободы человека как основу взаимоотношений с властью, обеспечивая тем самым справедливость и правопорядок в обществе и доктринальную основу властеотношений. С помощью правовых позиций происходит содержательное наполнение правовой доктрины, а также концепций и категорий, ее со- ставляющих, развивается правовая теория, поддерживается публично-правовой порядок.
В первом приближении формирование правовой доктрины публичной власти Конституционным Судом РФ происходит через толкование, в ходе которого суд осуществляет интепретационное развитие конституционных принципов. Но, по верному замечанию В. Д. Зорькина, деятельность конституционных судов по осуществлению контроля конституционности не может быть сведена к формально-юридическому (в духе юридического позитивизма) применению конституционных принципов и норм [7, с. 35].
Признавая значимость роли Конституционного Суда РФ в системе органов государственной власти, развитии конституционализма, охране и защите Конституции, было бы методологически неверным оставлять в стороне, в первую очередь, те характеристики решений Конституционного СудаРФ, которые вытекают из анализа ст. 125 Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Иной подход приведет к необоснованному отграничению правовой природы актов Конституционного Суда РФ как судебных правоприменительных актов и актов конституционного судебного контроля от их нормативной и доктринальной природы.
В. В. Лазарев пишет: «Правовые позиции, выраженные в решении Конституционного Суда – вместе, или лучше сказать, в контексте с особыми мнениями судей – во многом напоминают доктрину в самом прямом смысле этого слова. Следовало бы также уподобить решения Конституционного Суда праву юристов, коллективному праву юристов» [9, с. 49].
Т. М. Пряхина отмечает: «Осуществляя конституционный контроль, суд изобретает и расширяет конституционную доктрину, некоторые положения которой связаны с основным текстом легкими паутинками – если вообще связаны» [12, с. 170].
Рассматривая нетипичные источники гражданского права, А. Я. Рыженков и О. А. Яковлева полагают, что само по себе обращение к научной мысли при обосновании судебной позиции – один из способов санкционирования правовой доктрины [13, с. 36]. А с учетом того, что научная мысль находит свое отражение не только в актах применения права, но и в нормах закона [10, с. 3–20], этот вывод видится еще более интересным и ценным применительно к Конституционному Суду РФ, поскольку этот орган выступает и как правоприменитель, и как правотворец (даже если признавать его роль только лишь как негативного законодателя).
Концептуальные рамки исследования определяются основными положениями теорий конституционного контроля, правовой доктрины и правоприменения. Правовая доктрина публичной власти, понимаемая как особая форма воплощения теоретических знаний о публичной власти, является элементом правовой системы Российской Федерации и имеет при этом выраженную практическую направленность. Она представляет собой систему идей и взглядов на ключевые аспекты права (в той или иной области) [10, с. 3–20], базирующуюся в том числе на системе нормативных положений и правовых интерпретаций норм.
Именно практическая направленность, как представляется, не позволяет рассматривать доктрину исключительно как авторитетное мнение ученых, выраженное в форме принципов, теорий, концепций. По мнению Д. Е. Богданова, такой подход к правовой доктрине (как к авторитетному мнению) «является аморфным» [3, с. 102].
Е. В. Гаврилов пишет: «В доктрине закрепляется научно-исследо-вательская мысль, формируются идейная основа и теоретический стержень правотворчества, толкования и применения правовых норм» [6].
В содержании конституционной доктрины публичной власти можно выделить составляющую, условно обозначаемую как интерпретационная - важная роль в ее формировании принадлежит Конституционному Суду РФ, который способен как «мягкий законодатель» влиять на правовую систему без непосредственного изменения законодательства, не только истолковывая конституционные положения, но и формируя принципиальные положения и концепции, составляющие в итоге содержание правовой доктрины.
Такой подход, в целом, коррелирует с теорией правовой догмы, утверждающей, что право - завершенная система норм, основанная на логике и справедливости, и правовая доктрина в рамках этой теории играет роль интерпретатора и систематизатора существующих норм, уточняя их смысл и обеспечивая единство применения. Однако вряд ли
Конституционный Суд РФ может на практике полностью отказаться от учета социальных и политических факторов, и это делает его решения более прагматичными, чем строго догматическими. В противовес теории правовой догмы теория правового реализма акцентирует внимание на том, что право реализуется именно в практике, и потому Конституционный Суд РФ, вынося решения по конкретным делам, учитывает и практические последствия своих решений, и стремится к их эффективному применению. В этом смысле Конституционный Суд РФ уже не только «интерпретатор» права, но и его «создатель».
Границы интерпретации: может ли Конституционный Суд РФ переосмыслить и видоизменить доктрину публичной власти? Анализируя механизм интерпретации Конституции Российской Федерации, формирования правовых позиций и развития правовой теории, можно выделить направления влияния Конституционного Суда РФ на процесс формирования и развития доктрины публичной власти, основой для исследования которых становится функциональная триада правовой доктрины (описание существующего права (de lege lata); выработка предложений по его совершенствованию (de lege ferenda); обоснование и легитимизация новелл) [15, с. 207– 228; 7, с. 102].
Выработка правовых конструкций доктрины публичной власти. В рамках осуществления конституционного контроля Конституционный Суд РФ посредством юрисдикционных конструкций определяет правовую природу публичной власти, определяя ее компетенционные параметры, основополагающие принципы и организационно-функциональные механизмы, а также устанавливая нормативно-правовые основания деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Институционализация категории «публичная власть» в легальном обороте была осуществлена Конституционным Судом РФ задолго до ее конституционного закрепления в процессе реформы 2020 года, что свидетельствует о ее концептуальной значимости для понимания структуры и функциональных характеристик системы государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Именно посредством формулирования правовых позиций Суд осуществляет развитие и детализацию конституционной интерпретации, адаптируя норма- тивные предписания к трансформирующимся социально-политическим и экономическим условиям. Это позволяет учитывать динамику общественных отношений и потребности общества, обеспечивать соответствие между правом и социальной реальностью, что, в свою очередь, способствует поддержанию стабильности и функциональности правовой системы. Особую значимость представляет способность правовых позиций генерировать новые правовые понятия и категории, тем самым стимулируя и актуализируя правоприменительную практику.
Проблематика публичной власти становилась предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ неоднократно – как при рассмотрении макроконституционных правовых вопросов понимания публичной власти и ее правовой природы, системы публичной власти, народовластия, так и отдельных институтов в публично-властной сфере – избирательное право, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, разграничение компетенции между органами власти, ограничения и пределы публичной власти принципами правового государства.
Решения Конституционного Суда РФ, затрагивающие вопросы публичной власти, можно разделить на группы. Первая группа – решения, которыми категория «публичная власть» вводилась в легальный оборот. К числу таких решений могут быть отнесены постановления от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»; от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике», в рамках которых публичная власть рассматривалась как совокупность существующих в государстве органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В Постановлении от 24 декабря 2012 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» Суд отмечает, что положения Конституции РФ гарантируют осуществление публичной власти в различных формах, исходя из признания особенностей ее организации и осуществления на каждом из территориальных уровней, в том числе с учетом специфических характеристик конституционно-правового статуса субъектов РФ, а также муниципальных образований. О. А. Кожевников пишет: «Таким образом Конституционный Суд РФ вложил в категорию «публичная власть» не только структурную составляющую, но и пространственно-территориальное содержание, определив необходимость осуществления публичной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях» [8, с. 43–47].
Давая оценку положениям Закона Российской Федерации о Поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Конституционный Суд РФ в заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о Поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» отметил, что «принцип единой системы публичной власти, хотя и не нашел буквального закрепления в гл. 1 Конституции Российской Федерации, вместе с тем тесно связан с многочисленными положениями данной главы, определяющими конституционно-правовые основы построения власти в РФ. В частности, Конституционный Суд РФ разъясняет, что категория «единая система публичной власти» производна от основополагающих понятий «государственность» и «государство», означающих политический союз (объединение) многонационального российского народа, общая суверенная власть которого распространяется на всю территорию страны и функционирует как единое сис- темное целое в конкретных организационных формах, определенных Конституцией РФ (ст. 5, 10, 11 и 12). Выработанные в рамках этих решений правовые позиции способствовали поддержанию единства правовой природы органов государственной власти и органов местного самоуправления с учетом принципов верховенства права и единого правового пространства - обе категории органов являются элементами публичной власти и подчиняются Конституции РФ.
Кроме названных, значительно число постановлений и определений Конституционного Суда РФ, посвященных отдельным вопросам реализации конституционной модели публичной власти, - формирование доктрины происходит и в том случае, когда Суд рассматривает вопрос о конституционности закона, на первый взгляд, казалось бы не регулирующего напрямую отношения в системе публичной власти, но затрагивающего отдельные аспекты взаимодействия человека и государства. Во многом это обусловлено тем, что властеотношения как центральная категория доктрины публичной власти пронизывают многие сферы общественной и политической жизни. Как отметил Н. С. Бондарь в одном из интервью, Конституционный Суд РФ занимается конституционализацией политики, не выходя за рамки свойственных ему функций сугубо правового характера [11].
К числу таких решений можно отнести, например, Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 1997 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца шестого пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 20 апреля 1996 года», Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граждан А. С. Стах и Г. И. Хваловой», Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с за- просом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина А. В. Жмаковского», в которых Суд, рассматривая вопросы приостановления законами о бюджете действия норм, устанавливающих социальные гарантии гражданам, сформулировал правовую позицию о поддержании доверия граждан к действиям государства, отметив, в частности, что изменение законодателем (в том числе посредством временного регулирования) ранее установленных правил должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость законодательной политики в социальной сфере. Это, как и точность и конкретность правовых норм, которые лежат в основе решений правоприменителей, включая суды, необходимо для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты, то есть в том, что приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано.
К вопросам доверия к власти Суд обращается также в Постановлении от 14 января 2016 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 13 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в связи с жалобой гражданина С. В. Иванова», отмечая, что принципы правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства гарантируют гражданам, что решения принимаются уполномоченными государством органами на основе строгого исполнения законодательных предписаний, а также внимательной и ответственной оценки фактических обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение прав.
При этом в Постановлении от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца» Конституционный Суд Российской Федерации указал на существенное значение, которое при разрешении споров по искам публичноправовых образований имеет в том числе оценка действий (бездействия) органов, уполномоченных действовать в их интересах, в частности ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, совершение ошибок, разумность и осмотрительность в реализации ими своих правомочий.
Деятельность Конституционного Суда РФ, в первую очередь, формирует интерпретационный компонент правовой доктрины. Суд не только осуществляет нормотворчество путем формулирования правовых норм, но и раскрывает их содержание, вводя в правовой дискурс новые понятия и определяя свою позицию относительно их правовой природы, тем самым стимулируя развитие доктринального понимания публичной власти. В результате, формирующаяся правовая доктрина представляет собой целостную систему теоретических воззрений, объединенных единой концептуальной направленностью и выраженной практической ориентацией.
Затрагивая спорные вопросы, требующие разработки новых правовых концепций (свободы слова, права на частную жизнь, соотношения федеральных и региональных полномочий), Конституционный Суд РФ через правовые позиции способствует развитию соответствующих доктринальных теорий. В дальнейшем, исследуя правовые позиции Конституционного Суда РФ, отраженные в постановлениях и определениях, выявляются новые правовые принципы и механизмы их применения, обогащающие правовую доктрину и адаптирующие ее к изменяющимся социально-политическим условиям.
Взаимосвязь правовой доктрины, формируемой Конституционным Судом РФ, правотворческой и правоприменительной практики.
Говорить о формировании ключевых элементов доктрины публичной власти и ее последующем развитии посредством судебных правовых позиций – верный подход, однако, он не обеспечивает исчерпывающего раскрытия роли Конституционного Суда РФ в про- цессе развития и концептуального обогащения рассматриваемой правовой доктрины. Следует согласиться с мнением Д. О. Османовой, которая говорит о невозможности игнорировать очевидное вплетение научной деятельности в формирование текущего законодательства и правоприменительной практики [10, с. 3–20].
Развиваемая Конституционным Судом РФ правовая доктрина публичной власти оказывает существенное влияние на правотворчество и правоприменение – Конституционный Суд РФ обеспечивает единство правоприменения в сфере публичного права, создавая систему правовых позиций, которая определяет правила поведения для государственных органов. Решения Конституционного Суда РФ потенциально могут устранять разночтения в практике законодательной и исполнительной власти, обеспечивая доверие граждан, устанавливая границы публичной власти, способствуя укреплению конституционного порядка и обеспечению верховенства права. Выделим аспекты такого влияния.
Первое. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, в том числе по вопросам публичной власти, имеют ориентирующее значение для правоприменительной практики, формируя единый подход к интерпретации норм Конституции, стандарты интерпретации, разъясняющие, как должны пониматься и применяться те или иные правовые нормы, что способствует правовой определенности и предсказуемости в условиях многообразия правовых норм и их возможной противоречивости, минимизирует случаи произвола при интерпретации норм.
Второе. Правовые позиции Конституционного Суда РФ помогают подтвердить легитимность интерпретируемых норм и принципов, что в свою очередь имеет ключевое значение в контексте обеспечения прав и свобод граждан, а также в процессе формирования правосознания общества.
Третье. С помощью правовой позиции, толкующей норму и дополняющей правовую доктрину, Суд может «исправлять» неправильную норму, используя толкование contra legem («от противного»), придавая нормативному предписанию смысл, противоречащий буквальному прочтению текста. И хотя на сегодняшний день в российском юридическом сообществе консенсуса относительно толкования contra legem не сложилось [1, с. 204–
223; 2, с. 40–56; 14, с. 92], мы полагаем, что допустимость такого толкования обусловлена необходимостью обеспечения справедливости, преодоления юридико-технических недостатков законодательства и его возможного отставания от реальных общественных отношений. Н. С. Бондарь пишет: «Ценностноправовая система конституционализма, основанная на требованиях верховенства права, … объективно «взращивала» внутри себя, в своей демократической конституционно-правовой среде некие фундаментальные правовые принципы, аксиомы правовой, политической, экономической жизни, которыми мог (а в последующем – должен был!) руководствоваться суд, принимая решение contra legem» [5].
В контексте законотворческой деятельности правовые позиции Конституционного Суда РФ служат основой для внесения изменений в действующее законодательство с целью устранения правовой неопределенности или противоречий, выявленных в рамках конституционного судопроизводства. Они также инициируют процессы реформирования и развития законодательства, адаптируя нормативно-правовое поле к запросам и потребностям социума и вызовам, возникающим в сфере правоприменении.
В логику взаимодействия Конституционного Суда РФ с правотворчеством укладываются, как представляется, и рекомендации Суда законодателю. Н. С. Бондарь отмечает: «Специфической формой нормативно-доктринального воздействия конституционно-судебного правосудия на правовую систему является формулирование Конституционным Судом Российской Федерации по итогам рассмотрения дела рекомендаций законодателю, которые хотя и не имеют непосредственно обязывающего значения для нормотворческих органов, тем не менее ориентируют их на последовательную и систематическую реализацию конституционных принципов и норм в текущем законодательстве [5, с. 145]».
При позитивистской парадигме правопо-нимания постулируется недопустимость ква- лификации судебных рекомендаций, адресованных законодателю как обладающих юридически обязывающей силой. Данная концепция нивелирует вопрос о приоритете конституционного правосудия над законодательной властью, а также необходимость учета дискреционных полномочий законодателя, что не подвергается сомнению. Основную роль в данном контексте играют презумпция добросовестности законодательного органа и презумпция добровольности исполнения рекомендаций, сформулированных Конституционным Судом РФ.
Основные выводы . Конституционный Суд РФ как орган, осуществляющий конституционный контроль, играет существенную роль в формировании и развитии правовой доктрины публичной власти, а также в концептуализации сущности и функциональных характеристик публичной власти. Сформированная Судом «интерпретационная доктрина» обеспечивает понимание Конституции и ее применение в практике, оказывает влияние на формирование правовой культуры и способствует укреплению принципа верховенства права.
Системообразующий характер правовых позиций, формулируемых Конституционным Судом РФ, обеспечивает внутреннюю согласованность права и правовой системы, устраняя коллизии и несоответствия в нормативноправовых предписаниях. Постановления и определения Конституционного Суда РФ, посредством толкования раскрывающие содержательное наполнение конституционных норм и устанавливающие принципы и методологические подходы к их применению, выступают в качестве значимого источника правовых идей и концепций, которые в дальнейшем инкорпорируются в правотворческую и правоприменительную деятельность. Конституционный Суд РФ, развивая содержание правовых принципов, детализируя существующие правовые конструкции, юридические понятия и термины, вносит значительный вклад в непрерывное развитие конституционной доктрины.