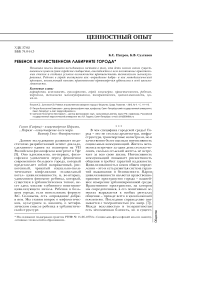Ребенок в нравственном лабиринте города
Автор: Пигров Константин Семенович, Султанов Константин Викторович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (37), 2015 года.
Бесплатный доступ
Основная мысль данного исследования состоит в том, что дети самим своим существованием цивилизуют городское сообщество, высвобождая в нем позитивные нравственные стихии и создавая условия возможности противостоять технологиям манипулирования. Ребенок в городе выступает как «оправдание добра» и как методологический принцип, позволяющий понять нравственные противоречия урбанизма и всей цивилизованности.
Варварство, вежливость, вульгарность, город, лицемерие, нравственность, ребенок, терпение, технологии манипулирования, толерантность, цивилизованность, цинизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14031931
IDR: 14031931 | УДК: 37.02
Текст научной статьи Ребенок в нравственном лабиринте города
Пигров К.С., Султанов К.В. Ребенок в нравственном лабиринте города // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 4. – С. 111–115.
Гамен (Гаврош) – олицетворение Парижа, ...Париж – олицетворение всего мира.
Виктор Гюго «Отверженные»
Данное исследование развивает недостаточно разработанный аспект доклада, сделанного одним из соавторов на VII Российском философском конгрессе в Уфе [9]. Оно вдохновлено, во-первых, философским удивлением перед феноменом современного большого города, который представляет собой напряженный, рискогенный, чреватый социально-политическими конфликтами «плавильный котел» цивилизованности, и, во-вторых, удивлением феномену ребенка, который, существуя в урбанистическом топосе, несет здесь миссию глубинного позитивно-цивилизующего начала. Ребенок в большом городе, если использовать формулу В.С. Соловьева, есть «оправдание добра» в нем. Мы ставим вопрос о мифологическом, культурном и, наконец, о метафизическом смысле ребенка в урбанистической структуре.
* * *
В чем специфика городской среды? Город – это не столько архитектура, инфраструктура, транспортные магистрали, но и качественно более высокая интенсивность социальных коммуникаций. Житель мегаполиса встречает за один день столько человек, сколько сельский житель не встречает за всю свою жизнь. Интенсивность коммуникаций повышает рискогенность общения и требует гарантий надежности. Цивилизованность в самом общем определении – это и есть развитая система гарантий выживания и безопасности. Ядром цивилизованности является нравственноправовое пространство города – важнейшее измерение урбанизированной среды. Нравственное пространство, на котором мы сосредоточимся, в его позитивных аспектах выражается в особых ритуалах общения – прежде всего в цивилизованной вежливости . Последняя справедливо связывается с толерантностью (см. напр. [7]). Между вежливостью и толерантностью есть несомненная близость, но и сущест-
* Исследование поддержано грантом РГНФ № 15-06-10735а «Социально-философский анализ манипулятивных технологий в образовании».
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015
венное различие, что видно уже из этимологии. Если толерантность происходит от латинского tolerantia – терпение, терпимость к чужим мнениям, убеждениям, верованиям, то вежливость от «вежа» – знающий, сведущий, образованный, ученый. В. Даль отмечает, что ныне вежа и невежа относится не до учености или познаний (в знач. неученого говорят невежда), а «до образования внешнего, до светского обращения, знания обычаев и приличий» (см. [3, с. 808]). В русском языке вежливость имеет французский эквивалент «politesse», указывающий на полис, – идущую из греческой античности городскую структуру. Именно как вежливость переводят этот французский термин «politesse» на русский язык (см. [4, с. 83]). Вежливость, конечно же, не сводится к возникшему только в нынешней сиюминутной политической конъюнктуре эвфемизму «вежливые люди». Она представляет собой, по существу, один из экзистенциальных аспектов необходимой в городе толерантности. Толерантность, близкая к терпимости, внутренне предполагает добродетель терпения, без которого вежливость немыслима. Ведь терпение по Ницше предстает как специфический способ видения мира и воздействия на него. Терпение связано с преодолением самого себя, своей собственной вспыльчивости, поспешности, возбудимости. В противоположность нетерпению терпение предполагает направленность сил на удержание реакции, на замедление эмоционального порыва, на охлаждение страсти (см. [14, с. 432–439]). Таким образом, вежливость – весьма важный концепт, в нашей философской литературе изученный недостаточно, представляет собой экзистенциальный аспект толерантности в широком смысле. Э. Левинас неоднократно подчеркивал, что в формуле вежливости, которая может быть представлена словосочетанием «после вас, пожалуйста», заключена вся суть морали (см., напр. [6]). Андре Конт-Спон-виль подчеркнул различие моральной и социальной сути вежливости: «...В этом искусстве [вежливости, – К.П., К.С. ] истинные помыслы ничего не значат, все решает обычай. Не следует поэтому придавать вежливости чересчур важное значение, хотя еще ошибочнее думать, что без нее можно обойтись. Вежливость – видимость добродетели, ее нравственная ценность равна нулю, но ее общественная польза бесценна» [4, с. 84].
Цивилизованная вежливость в городской среде ритуальна, конвенциональна и потому формальна. Нравственное про- странство города предстает как топос стереотипов привычек, автоматизмов «хороших манер». Горизонтом цивилизованной вежливости являются формы доброжелательности, тактичности, деликатности и т. п. При этом именно цивилизующая вежливость является стержнем воспитания подрастающего поколения. Во всех становящихся и развивающихся цивилизациях, от древности и до наших дней, особое внимание уделяется военной строевой подготовке и спорту (преимущественно для мальчиков) и танцам (преимущественно для девочек). Ведь пластика жеста, сформированная как импринтинг еще на «до-сознательном» уровне, оказывается прочнейшим основанием «хороших манер», «воспитанности» и даже «благородства» (см. [12]).
Переход от варварства к цивилизованности, который начался в «осевое время», не может быть закончен раз и навсегда. Его вечное изменение во времени добавляет еще одно измерение сложности пространству урбанизма. Это не «тротуар Невского проспекта» (образ Н.Г. Чернышевского). Поэтому нравственное пространство города превращается в сложный, подчас трагически-безвыходный лабиринт. Варварство в городе воспроизводится каждый день в превращенных формах как цивилизованное варварство . Завоеванные позиции подлинной цивилизованности мы с каждым новым поколением, с каждым новым крупным вызовом (вроде войн, революций и т. п.) должны отстаивать и выстраивать опять и опять. Цивилизованное варварство города обнаруживается в крайних формах концлагеря, ГУЛАГА, гетто. Город становится «зоной» (как в смысле «Сталкера» Андрея Тарковского, так и в смысле «Архипелага ГУЛАГА» Александра Солженицына). ГУЛАГ оказывается моделью или «рентгеновским снимком» города вообще.
Если рассмотреть в этом плане вечную борьбу за цивилизованность, то обнаруживаются два ее «фронта». Во-первых, продолжающееся начиная с «осевого времени» вторжение деревни в город. Деревня всегда тяготела к доцивилизованному укладу жизни, – к архаике. В эксцессах урбанизации она поселяется в городе и деформирует его. Во-вторых, постоянное порождение хаоса самим урбанизмом – самим городским порядком. В городе необходимо все время заново выстраивать социально-политическую иерархию. Здесь происходит рождение и поддержание аристократизма – вечная задача цивилизованности. Перманен- тное напряжение урбанизма состоит в том, чтобы постоянно производить людей, для которых существуют ценности выше, чем выживание. Постоянное (и утомительное!) сопротивление Ферситам и Шариковым – тягостная необходимость держать раба в узде и сбрасывать с «парохода цивилизованности» тех «господ», которые уже утеряли пассионарность и перестали исполнять свои социальные функции. В агонии нравственного лабиринта города все время заново воспроизводится диалектика господина и раба по Гегелю [1, с. 103].
В связи с этой диалектикой наметим существенные оси городской цивилизованности, на которых эта диалектика развертывается.
Во-первых, ось «цивилизованная вежливость – вульгарность». Становление и поддержание городской среды идет через преодоление варварской вульгарности вежливостью. Цивилизованная вежливость предполагает диалогическое отношение в смысле И.Г. Гамана и Ф.Г. Якоби [2] в традиции всей «диалогической философии» – вплоть до М.М. Бахтина и Г. Гадамера. Цивилизованная вежливость предполагает, что Другой являет собой не только средство, но и самоцель. Вежливость – это позиция подлинного господина. Такая вежливость регулируется высоким страхом Angst (см. [5]) – страхом не состояться перед высшими ценностями цивилизованности. Город в таком смысле представляет собой «машину дружбы», систему априорной и формальной доброжелательности, носящей онтологический характер.
Во-вторых, ось «цивилизованная вежливость – лицемерие», ориентирующая на изживание лицемерия, уже нажитого в наслоениях существующей цивилизации. Лицемерие внешне как будто неотличимо от цивилизованной вежливости. Одно легко принять за другое. Но под маской вежливости лицемерие использует Другого только как средство. Отличие от вежливости в мотивах: лицемерие руководствуется не высоким, а низким страхом, Furcht (см. [5]). Лицемерного внутренне раздирают стихии ресентимента: зависть, ревность, обида, вина, бессильная враждебность и т.п. Главное для лицемерного – скрыть перед лицом Другого эту черную бездну своей души.
Лицемерие и есть, по существу, так называемая «манипулятивная технология», причем одна из самых древних и самых эффективных форм манипулятивных технологий. В сущности, все манипулятивные технологии – это не что иное, как модификация древнего лицемерия, принимающего подчас в массовом информационном обществе самые изощренные формы (см., напр. [10]).
Техника лицемерия являет собой в широком смысле маски (см., напр. [11]), базирующиеся на анонимности. Сегодня мы имеем широкий спектр возможных масок в широком смысле – от масок спецназа до маски Анонимус Гая Фокса. Техника низкого страха, Furcht, по существу, есть техника ресентимента. Она бесконечно многообразна. Это, к примеру, замки, металлические двери с глазками, решетки на окнах, видеокамеры наблюдения, шлагбаумы на дорогах и т. п. Все это маски урбанизированного пространства, развертывающегося в плане отчуждения.
Феномен вульгарности представляется противоположностью лицемерию. Одна из господствующих разновидностей вульгарности являет собой цинизм . Внешне этот модус вульгарности предстает как раз в качестве демонстративного, балаганного «протеста» против лицемерия – показное прокламирование якобы искренности как «правды-матки». Но на самом деле вульгарность, особенно в своей разновидности цинизма, – это «лицемерие в квадрате». Вульгарный цинизм мы наблюдаем в активистском стиле поведения «деревенщины», заброшенной в город и во что бы то ни стало пытающейся заявить о себе как «жених на всех свадьбах и покойник на всех похоронах». Ресентимент «деревенщины» обнаруживается как попытка обратить на себя внимание. Здесь, в частности, нередко в ход идет козырная карта корневого, исконного происхождения: «кровь и почва». Мол, «мы из самых глубин, из самых оснований». Оригинальность и энергия демонстративного обращения к корням оборачивается скандальностью (как это проскальзывало, например, у Сергея Есенина).
Однако такое описание многообразных форм отчуждения в городской среде не должно создавать впечатления, что город являет собой непреодолимые авгиевы конюшни превращенных форм цивилизованности. Городская среда обнаруживает мощные позитивные стихии саморегулирования. Лицемерие перерабатывается ею и со временем инверсиру-ется в цивилизованную вежливость, когда удается справиться с низким страхом Furcht, когда изживается ресентимент. Так превращенные формы всегда имеют позитивный горизонт принципа обора-
Общество
чивания, инверсии (см. [9]). Так же как лицемерие через принцип оборачивания инвертируется в цивилизованную вежливость, так же и вульгарность через инвер- сию превращается в креативность, в прорыв инноваций – необходимый фермент напряжения городской среды. Позитивное начало урбанизма в поступательном развитии цивилизации в итоге побеждает, как показывает поступательный ход мировой истории.
Такого рода инверсия негативных форм цивилизованности в позитивные художественно-символическим образом показана в финале «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, где волшебные черные кони уносят Воланда и его свиту из Москвы. Вся эта отвратительная нечисть радикально преобразуется. Бегемот оказывается худеньким юношей, демоном-пажом, «лучшим шутом в мире». Коровьев предстает мрачным темно-фиолетовым рыцарем – он, оказывается, наказан был за то, что некогда неудачно пошутил на темы света и тьмы.
* * *
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015
В нашем рассмотрении феномен детства выступает как одно из мощных позитивных начал урбанизма. Ребенок еще с древности предстает перед мыслящим взором как потустороннее существо, связанное с богами, с амбивалентными стихиями мира. Это удивительное существо обладает способностью персонифицировать мир либо целиком, либо олицетворяя некоторые его ключевые моменты.
С одной стороны, ребенок в большом городе – это «голый среди волков»: городская стихия обнаруживает предельные формы бесчеловечности, лишенные всяких следов цивилизованной вежливости. Поэтому так эмоционально непереносимо зрелище насилия над детьми в урбанизированной среде, насквозь прозрачной благодаря СМК, где факты насилия тиражируются и становятся достоянием медиа. Симметричным образом, мучительно действуют на нас выложенные в Интернет сцены насилия, которое совершают дети и подростки. Насилие, где дети выступают либо как жертвы, либо как насильники, задевает самую глубинную суть нашей человечности, сложившейся в своих базовых основаниях еще в «осевое время» [13, с. 28–287]. Достоевский в «Братьях Карамазовых» соединяет эти два архетипических момента: мальчик камнем зашибает ногу собаке и потом собаками же растерзывается – собаками, натравленными на него самодуром-генералом.
С другой стороны, город – вдруг! – проявляет бурные всплески бескорыстного милосердия по отношению к ребенку. Здесь обнаруживается мифологически главное: ребенок в большом городе – это гений места . Скажем, Гамен (Гаврош) – гений места города Парижа (в «Отверженных» В. Гюго). Благодаря Гаврошу роман Гюго обретает теплое, подлинно человеческое измерение. Ребенок в «Мальчике у Христа на елке» Достоевского – гений места дореволюционного Петербурга. В фильме Тони Гатлифа «Мондо» выведен мальчик – гений места Ниццы. Существенен в связи с этим архетип ребенка в концлагере (см., напр., фильм Роберто Бени-ньи «Жизнь прекрасна»). Фигура ребенка выявляет, что концлагерь есть концентрированное выражение негативного плана самой идеи урбанизма.
Обратим внимание, что в качестве гения места города (или промышленной инфраструктуры) предстает одинокий ребенок, не защищенный, не отгороженный от городской стихии семьей, школой, на худой конец, детским домом или детской шайкой. Его образ лепится в соответствии с романтическими представлениями о «маленьком номаде», например, о «беспризорнике». Причем речь не только о мальчиках. Гением места современного мегаполиса может быть и девочка. Маленькая волшебница в фильме Анны Меликян «Русалка», по сути, претендует на то, чтобы быть гением места Москвы. Так же Таня Савичева в своем «Дневнике» фактически оказалась трагическим гением места блокадного Ленинграда.
Таким образом, ребенок обнаруживает уже существующее нравственное пространство города, осваивает его и становится его хранителем, а также субъектом дальнейшего развития. Особо выделим одну нравственную проблему – проблему ложного и лжи . Детям невозможно лгать. Если ты отец или просто взрослый, то на прямой вопрос ребенка ты не можешь солгать в глаза – непременно должно сказать правду. Это императив. Основное нравственное напряжение города, собственно, базируется на обстоятельствах и формах нарушения этого императива. Но как бы там ни было, взрослые не только говорят, но и действуют (или не действуют!) как бы под взглядом ребенка . Если взрослый солгал или струсил перед лицом ребенка – совершил подлость, он никогда этого себе не простит. Это обстоятельство непреложным образом свидетельствует о существовании «неподвижных звезд»
нравственности в городе. Взгляд ребенка является здесь символическим гарантом нравственного. Общество, постоянно «исправляемое» взглядом ребенка, позитивно воздействует в свою очередь и на него самого. Возникает убеждение, что данная позитивная тенденция – «круговая порука добра» – раскрывает непреложный нравственный закон существования не только урбанизированной среды, но и всего цивилизованного социума.
Лицемерие или сегодня – манипулятивные технологии, как кажется, особенно «эффективны» по отношению к ребенку. Ребенок еще не выстроил психологических барьеров основополагающей тюремной максимы: «Не верь! Не бойся! Не проси!» Реализация этой максимы опрокидывает людей в сферу цинизма, который есть разновидность вульгарности. Ребенок как раз, напротив, «онтологически» устроен так, что он верит, боится и просит. Но если ситуация опрокинет его в цинизм, то это будет самый предель- ный цинизм, который взрослому просто «не по силам». Здесь мы и встречаемся с особыми образцами детской жестокости, которые только подтверждают главное – исключительную роль ребенка в городской среде.
* * *
Итак, ребенок предстает не только как «оправдание добра», но и как методологический прием постижения самой сути урбанизма, позволяющий понять его нравственные противоречия, а через них приблизиться и к осмыслению самой сути современной человеческой цивилизованности. Итог данного небольшого исследования, открывающего возможность детальной гуманитарной аналитики, состоит в том, что дети самим своим существованием цивилизуют сообщество города, высвобождая в нем позитивные нравственные стихии и создавая условия возможности противостоять технологиям манипулирования.
Список литературы Ребенок в нравственном лабиринте города
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа/Пер. Г. Шпета. -СПб.: Наука, 1992. -444 с.
- Гаман И.Г., Якоби Ф.Г. Философия чувства и веры/Сост., вступи. статья, пер. с нем., приложение, комментарии, примечания С.В. Волжина. -СПб., 2006. -487 с.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х тт. Т. 1. Репринтное воспроизведение издания 1903-1909 гг., осуществленного под редакцией профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ. -М.: Терра, 1998. -1744 ст. + Х.
- Конт-Спонвиль А. Философский словарь/Пер. с фр. Е.В. Головиной. -М.: Этерна, 2012. -752 с.
- Кьеркегор С. Понятие страха. -М.: Академический проект, 2014. -224 с.
- Левинас Э. Избранное: тотальность и бесконечное. -М.-СПб.: Университетская книга, 2000. -416 c.
- Перцев А.В. Жизненная стратегия толерантности: проблема становления в России и на Западе. -Екатеринбург, 2003. -253 с.
- Пигров К.С. Оборачивание метода и превращенные формы в процессе исторического творчества//Материалистическое учение К. Маркса и современность. -Л., 1984. -386 с.
- Пигров К.С. «Цивилизующая вежливость» городской среды//Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад -диалог мировоззрений. Тезисы докладов 7-го Российского философского конгресса... Т. 3. -Уфа, РИЦ, БашГУ, 2015. -384 с.
- Пую Ю.В. Философские основания антропологии манипулирования/Дисс.... докт. фил. наук. -СПб., 2010. -372 с.
- Толшин А.В. Маска, я тебя знаю. -СПб.: Петрополис, 2011. -288 с.
- Шемякина Е.В. Социальный смысл жеста: философский анализ/Дисс.... канд. фил. наук. -СПб., 2014. -155 с.
- Ясперс К. Истоки истории и ее цель//Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. 2-е изд. Пер. М.И. Левиной. -М., Республика, 1994. -527 с.
- Blondel E. La patience de Nietzsche: Explication de texte//Nietzsche Studien: International Jahrbuch für die Nietzscheforschung. Bd. 18. -B.-N.Y., 1989. -546 s.