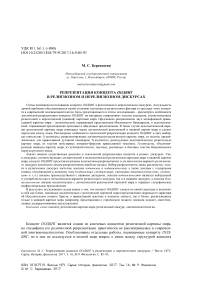Репрезентация концепта подвиг в религиозном и нерелигиозном дискурсах
Автор: Берендеева Мария Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание. Лексическая и грамматическая семантика: к юбилею Н. А. Лукьяновой
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию концепта ПОДВИГ в религиозном и нерелигиозном дискурсах. Актуальность данной проблемы обусловливается малой степенью изученности религиозного фактора в структуре этого концепта в современной лингвоконцептологии. Цель представленного в статье исследования - рассмотреть особенности лексической репрезентации концепта ПОДВИГ на материале современных текстов дискурсов, соответствующих религиозной и нерелигиозной (наивной) картинам мира. Предложено разграничение двух модификаций православной картины мира - догматической, отражающей представления Московского Патриархата, и недогматической, отражающей представления прихожан и обыденные представления. В таком случае недогматический вариант религиозной картины мира совмещает черты догматической религиозной и наивной картин мира и служит переходом между ними. Рассмотрены особенности лексической репрезентации концепта ПОДВИГ в трех выборках контекстов: 1) контексты, репрезентирующие догматическую религиозную картину мира, из текстов, предназначенных для православной духовной семинарии; 2) контексты, реализующие недогматическую религиозную картину мира, из текстов популярных интернет-форумов православной тематики; 3) контексты, объективирующие наивную картину мира, из публицистических, научных, рекламных и бытовых текстов Национального корпуса русского языка. Анализ показал существенные различия в лексической репрезентации концепта в разных дискурсах. Так, в дискурсах, соответствующих догматической и недогматической религиозным картинам мира и наивной картине мира, концепт ПОДВИГ представлен разным количеством репрезентантов: в догматическом варианте религиозного дискурса количество лексем-репрезентантов наиболее велико. Набор репрезентантов также различается: только в религиозном дискурсе частотны лексемы подвижник и подвижнический, а также лексемы с гендерными семами, отсылающими к женскому полу ( подвижница, сподвижница ), глагольные лексемы ( подвигнуть, сподвигнуть и т. п.) связаны преимущественно с наивным дискурсом, лексема подвижничество является нейтральной и употребляется как в догматическом варианте религиозного дискурса, так и в наивном дискурсе, а лексема Подвигоположник связана исключительно с догматической религиозной картиной мира и отражает специфические конфессиональные представления. В результате исследования сделан вывод о том, что концепт ПОДВИГ сложен по своей структуре и включает в себя как блоки, связанные исключительно с религиозной картиной мира (представления сакрального характера об Искупительном подвиге Христа, о православной аскетике и подвигах святых), так и блоки, реализующиеся только в наивной картине мира (например, представления о героическом подвиге, военном подвиге, многочисленные десакрализованные представления).
Концепт, религиозная картина мира, религиозный дискурс, лингвоконцептология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219861
IDR: 147219861 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-85-93
Текст научной статьи Репрезентация концепта подвиг в религиозном и нерелигиозном дискурсах
Концепт ПОДВИГ является одним из ключевых концептов религиозной картины мира, но специфика его религиозной репрезентации практически не рассматривалась в современной лингвоконцептологии. Опубликованы отдельные работы, посвященные концепту ПОДВИГ , но в них не исследуется в полной мере вопрос о связи между структурой концепта
Берендеева М. С . Репрезентация концепта ПОДВИГ в религиозном и нерелигиозном дискурсах // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 85–93.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология © М. С. Берендеева, 2017
и наличием / отсутствием религиозного фактора в определенном дискурсе, реализующем концепт. Так, работы Д. В. Дорджиевой [2010] и А. Н. Перебейнос [2015] посвящены сравнительному аспекту исследования концепта ПОДВИГ и не касаются вопроса о его религиозной природе, статья И. В. Бугаевой 1 посвящена церковной составляющей концепта, но особенности его реализации в различных дискурсах не рассматриваются. Пример последовательного анализа религиозной репрезентации концепта ПОДВИГ представляет исследование Ю. В. Кореневой, посвященное репрезентации этого концепта в агиографии. Автор делает вывод о том, что «концепт Подвиг в русской агиографической концептосфере является одним из важнейших концептов в поле макроконцепта Святость и в русском православном сознании обладает лингвокультурным статусом» [Коренева, 2012. С. 22]. Соглашаясь с выводом об особом статусе концепта ПОДВИГ в православной картине мира, мы сопоставляем его лексическую репрезентацию в текстах религиозного и нерелигиозного характера.
Данная статья представляет результаты одного из этапов нашего исследования, посвященного репрезентации религиозных концептов в дискурсах различного типа. Исследования религиозной концептосферы особенно актуальны в современной лингвистике в связи с актуализацией религиозной картины мира и объективирующей ее лексики в постсоветской России.
Цель исследования – рассмотреть особенности лексической репрезентации концепта ПОДВИГ на материале современных текстов религиозного и нерелигиозного дискурсов.
Религиозный дискурс репрезентирует в языке религиозную картину мира (далее – РКМ). Характеризуя РКМ, мы выделяем такие ее свойства, как сакральность (особая значимость представлений), конфессиональная ориентированность (отражение всех представлений о мире через призму определенной религиозной доминанты) и синкретичность (организация представлений в виде целостной системы, в которой все элементы тесно взаимосвязаны). Таким образом, РКМ маркирована определенными, только ей присущими свойствами, которые наделяют ее собственным содержанием, отличным от содержания нерелигиозной картины мира. Нерелигиозную картину мира, не включающую каких-либо структурообразующих конфессиональных элементов и соответствующую нерелигиозному сознанию, мы обозначим как наивную (далее – НКМ), по аналогии с противопоставлением «научная – наивная, или ненаучная, картина мира».
Провести границу между религиозной и наивной картинами мира очень сложно, это одна из главных проблем в области исследований РКМ. Для решения этой проблемы мы предлагаем разграничить две модификации РКМ – догматическую и недогматическую . Догматический вариант отражает представления Московского Патриархата (далее – РКМ-1), недогматический отражает религиозные представления прихожан и обыденные представления (далее – РКМ-2). РКМ-2 совмещает признаки РКМ-1 (сакрализованность, влияние религиозной доминанты) с некоторыми признаками НКМ (реализация в повседневном общении, отсутствие упорядоченности и иерархии представлений) и служит переходом между ними.
Для сравнения особенностей лексической репрезентации концепта в текстах, объективирующих три рассматриваемые нами картины мира, мы использовали три выборки контекстов:
-
1) контексты, объективирующие РКМ-1, взятые из различных догматических текстов для православной духовной семинарии (интернет-порталы «Типикон» и «Око церковное»), а также из православной религиозной публицистики (журналы «Вестник Московского патриархата», «Альфа и Омега» и т. п. – случайная подборка примеров из Национального корпуса русского языка за 1991–2006 гг.). Всего в нашей выборке 608 контекстов, репрезентирующих концепт ПОДВИГ в этом дискурсе;
-
2) контексты, объективирующие РКМ-2, взятые из текстов популярных интернет-форумов православной тематики: «Доброе слово» (разделы «Новоначальным» и «Православным»), «Форум Св. Андрея Первозванного», «Христианка», «Форум о. Андрея Кураева» – случайная подборка тем и страниц за 2011 г. Всего в этой выборке 162 контекста;
-
3) контексты, репрезентирующие НКМ, взятые из случайной подборки текстов небогословской публицистики 1991–2006 гг. из Национального корпуса русского языка (выбор этих текстов связан с тем, что публицистика предполагает отсутствие прямого выражения религиозной позиции в тексте, поэтому на фоне текстов религиозной направленности может считаться нейтральной и наивной), а также из рекламных, учебно-научных и обиходно-бытовых текстов 2007–2010 гг. Всего в этой выборке 377 контекстов, репрезентирующих концепт ПОДВИГ .
Поводом для включения контекста в выборку являлось наличие слова-репрезентанта концепта ПОДВИГ . К ключевым репрезентантам, составляющим ядро номинативного поля концепта ПОДВИГ , мы относим лексемы корнеслова «подвиг».
В «Современном толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова представлены следующие слова этого корнеслова: подвиг , подвигнуть , подвигнуться , подвижник , подвижнически , подвижница , подвижнический , подвижничество , подвизаться , сподвижник , спод-вижнический , сподвижница [2004]. Религиозный компонент лексического значения отмечен только у ЛСВ-1 подвижник (‘человек, изнуряющий себя лишениями, молитвами во имя служения Богу; отшельник, затворник’) и ЛСВ-1 подвижничество (‘состояние подвижника, образ жизни подвижника (1 зн.)’, причем ЛСВ-1 подвижник , по сути, объединяет два близких ЛСВ: 1) ‘человек, претерпевающий лишения ради веры’; 2) ‘отшельник’. Во втором случае семантика ЛСВ не предполагает сакральных сем, так как отшельничество как образ жизни не обязательно связано с какими-либо возвышенными и тем более религиозными причинами. Первый вариант предполагает широкий комплекс признаков образа жизни (различного рода лишения и ограничения, но не только отшельничество), но ограничивает причины и цели реализации этих признаков религиозной сферой.
Для сравнения обратимся к «Словарю православной церковной культуры» Г. Н. Склярев-ской, фиксирующему значения лексики религиозной сферы, т. е. связанной с РКМ. В этом словаре корнеслов «подвиг» представлен двумя словарными статьями:
Подвиг – ‘усилия, совершаемые человеком ради приближения к Богу (утверждение веры, обеты , посты , молитвы , отказ от жизненных благ, подавление страстей и т. п.)’.
Подвижник – ‘человек, совершающий подвиги , проводящий жизнь в подвигах (чаще монах), за что получает особую Божью благодать ’ [2008. С. 284].
Таким образом, в рамках догматической РКМ, которую отражает словарь, подвиг предстает как религиозное действие, а соответствующая лексема – как сакрализованная. ЛЗ ключевого репрезентанта концепта совмещает такие компоненты, как ‘усилие и трудные действия’, ‘лишения’ и ‘движение’ в одном ЛСВ, т. е. является синкретичным. Сема ‘движение’ (‘приближение’) указывает на идею подвига как внутреннего движения в направлении к высшей цели, в данном случае – движения человеческой души к Богу. Толкование ЛЗ слова подвиг также включает конкретизацию тех действий (как разовых, так и длительных, но в большей степени длительных, скорее состояний, чем действий), которые могут считаться подвигами. Сочетание краткости и длительности в одном ЛСВ обнаруживается в толковании ЛЗ лексемы подвижник : подвижник – это человек, который совершает конкретные, ограниченные во времени подвиги, но он совершает их постоянно, регулярно и систематически, чем превращает совершение подвигов в свой образ жизни (причем подвиги могут быть незаметными и, на первый взгляд, неяркими, т. е. видимыми только Богу как их основному адресату, например, постоянные молитвы). Также здесь появляется еще один обязательный компонент подвига, важный для православия, отраженный в ЛЗ ЛСВ-1 подвижник : подвигом человек стяжает благодать Божью.
Анализ контекстов показал, что в каждом из трех типов дискурса концепт ПОДВИГ представлен различным набором репрезентантов, причем в религиозном дискурсе количество репрезентантов больше. Это свидетельствует о большей сложности и детализированности структуры концепта в РКМ.
Абсолютное и относительное количество употреблений разных репрезентантов концепта ПОДВИГ в трех дискурсах показано в таблице (см. далее).
Рассмотрим далее выявленные различия в лексической репрезентации концепта в РКМ и НКМ на материале рассмотренных нами контекстов.
Репрезентация концепта ПОДВИГ в различных дискурсах
|
№ |
Лексема |
Количество употреблений |
Относительная частота употребления среди лексем корнеслова «подвиг» (%) |
||||
|
РКМ-1 |
РКМ-2 |
НКМ |
РКМ-1 |
РКМ-2 |
НКМ |
||
|
1 |
подвиг |
336 |
107 |
261 |
55,3 |
65,8 |
69,3 |
|
2 |
подвижник |
126 |
38 |
25 |
20,7 |
23,3 |
6,7 |
|
3 |
сподвижник |
18 |
– |
31 |
2,9 |
– |
8,3 |
|
4 |
подвижница |
14 |
3 |
– |
2,3 |
2,1 |
– |
|
5 |
сподвижница |
8 |
– |
– |
1,4 |
– |
– |
|
6 |
подвигнуть |
2 |
– |
24 |
0,3 |
– |
6,4 |
|
7 |
сподвигнуть |
– |
– |
8 |
– |
– |
2,1 |
|
8 |
подвигать |
5 |
2 |
1 |
0,9 |
1,2 |
0,2 |
|
9 |
подвижнический |
36 |
5 |
3 |
5,9 |
3,0 |
0,7 |
|
10 |
подвижнически |
2 |
– |
– |
0,3 |
– |
– |
|
11 |
подвижничество |
26 |
– |
11 |
4,3 |
– |
2,9 |
|
12 |
подвизаться |
33 |
7 |
13 |
5,4 |
4,6 |
3,4 |
|
13 |
подвигоположник |
2 |
– |
– |
0,3 |
– |
– |
Различное количество репрезентантов корнеслова «подвиг» в разных дискурсах
Интересные, по нашему мнению, результаты дает подсчет количества лексем, употребляемых в выборках текстов, репрезентирующих три картины мира. Так, в текстах РКМ-1 встречается 12 разных лексем корнеслова «подвиг», в текстах РКМ-2 – 6 лексем, а в текстах НКМ – 9 лексем, т. е. количество разнообразных словоупотреблений падает при переходе от РКМ-1 к РКМ-2 и снова возрастает при переходе к НКМ. Это может быть связано с тем, что в догматической РКМ и в НКМ есть специфические блоки концепта ПОДВИГ , а в переходной недогматической РКМ догматические представления об Искупительном подвиге Христа уже неактуальны, но еще не распространены представления о светском подвиге, репрезентируемые такими лексемами, как сподвигнуть и сподвижник (частота их употребления особенно высока в НКМ). Это наблюдение позволяет нам предположить, что структура концепта ПОДВИГ в РКМ-2 наименее сложна и включает малое количество блоков представлений.
Количественное преобладание употреблений лексемы подвиг
На употребление лексемы подвиг приходится более половины словоупотреблений во всех трех выборках, что объясняется ее функционированием в качестве основного репрезентанта и имени концепта, а также ее стилистической нейтральностью.
Тем не менее обнаруживается тенденция к незначительному увеличению количества словоупотреблений лексемы подвиг при переходе из РКМ-1 в РКМ-2 и из РКМ-2 в НКМ. Это может свидетельствовать о расширении концепта, о присоединении к нему новых блоков в НКМ. Так, репрезентанты концепта в РКМ преимущественно отражают представления об Искупительном подвиге Христа и о подвигах его последователей, как в следующих трех контекстах – одном из РКМ-1 и двух из РКМ-2 соответственно:
Так что Павел говорил, конечно, не об учении, а об искупительном крестном подвиге, продолжением которого является Евхаристия (Алымов. Лекции по исторической литурги-ке); Мне кажется, после прихода в мир Спасителя и Его крестного подвига человек больше не остается один-на-один cо своей болью 2 («Доброе слово» (раздел «Православным»)); А примеров аскетических подвигов, равных ее подвигам, лично я не знаю («Форум о. Андрея Кураева»).
В НКМ представления о подвиге расширяются за счет выделения блоков, связанных с идеями военного подвига, долга перед Родиной, как в следующем примере:
Перед советским прошлым выглядит смехотворно бутафорская «петербургская империя» Президента , в которой нет места величию , трагедии , государственному подвигу , а один только фарс , пиар , балаган (Александр Проханов. Антисоветский Путин (2003) // «Завтра», 2003.08.13).
Слово подвиг в НКМ может иметь даже отрицательные коннотации, как в следующем примере:
…замашками революционных героев , особенно рельефно проявившимися в « подвигах » доблестной ВЧК , затем ГПУ (Сергей Голубицкий. Who is John Galt? (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.08.17).
Таким образом, лексема подвиг преобладает во всех трех выборках, т. е. является основным репрезентантом концепта ПОДВИГ .
Религиозная ориентированность лексем подвижник и подвижнический
Слова подвижник и подвижнический практически с одинаковой частотой употребляются в контекстах, репрезентирующих РКМ-1 и РКМ-2, но в контекстах НКМ встречаются намного реже. Это свидетельствует об ориентированности этих двух лексем на религиозный дискурс, как в следующих примерах РКМ-1:
Это – ключевые слова , выявляющие всю суть отличия карательных чудес Ветхого Завета и примыкающих к ним по характеру чудес мусульманского мира от подобных же чудес Нового Завета и святых подвижников христианства (Юрий Максимов. Понятие чуда в христианстве и в исламе // «Альфа и Омега», 2001); Все , кто прямо или косвенно когда-либо соприкоснулся с епископом Сергием , кто ощутил всю глубину его подвижнической и такой мирной души , с трудом могут сразу принять ту потерю , которую они понесли с уходом Владыки из земной жизни (Сергий (Соколов), епископ Новосибирский и Бердский // «Альфа и Омега», 2000).
Религиозная семантика лексемы подвижничество ощутима и в НКМ, о чем свидетельствует, например, следующий контекст, в котором лексема подвижник десакрализована, но ее сочетание с определением жертвенный и стилистически возвышенными словами указывает на инородный для НКМ характер лексемы:
Советское прошлое дышит могучей историей , светит красными звездами , взывает голосами жертвенных подвижников , плещет стягом Великой Победы (Александр Проханов. Антисоветский Путин (2003) // «Завтра», 2003.08.13).
Нейтральная терминологичность лексемы подвижничество
Лексема подвижничество примерно с равной частотой употребляется в контекстах, репрезентирующих РКМ-1 и НКМ. Это может быть связано с тем, что данная лексема имеет терминологический и абстрактный характер. Ее использование в тексте позволяет классифицировать некое действие как подвижничество в рамках тех представлений о подвижничестве, которые являются актуальными для картины мира, определяющей специфику данного дискурса. Эта особенность позволяет приписать концепту ПОДВИГ статус «концепта рамочного типа» в терминологии Ю. С. Степанова [1997. С. 70].
Так, в следующем контексте из РКМ-1 жизненный путь женщины описывается как подвижнический, исходя из православных представлений о подвиге:
Во главе благочестивых поселянок этой местности вначале была инокиня Павла , известная своей богоугодной жизнью и строгим подвижничеством (Нина Торопцева. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века (1996) // «Альфа и Омега», 2000-2001).
Подобная ситуация сближает лексемы подвижничество и жертвоприношение (см. об этом: [Широкова (Берендеева), 2009; Берендеева, 2012]), имеющие терминологический статус, но следующее обстоятельство выявляет различие в употреблении этих лексем: если лексема жертвоприношение становится особо употребительной в контекстах недогматической РКМ, то лексема подвижничество в контекстах этой выборки не употребляется вообще. Возможно, это связано с противоположными тенденциями в структуре соответствующих концептов: концепт ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ в РКМ-2 вбирает в себя и религиозные, и наивные элементы, а концепт ПОДВИГ , напротив, обедняет свою структуру за счет того, что религиозные представления уже не актуальны, а новые десакрализованные блоки представлений еще не сформированы.
Активизация гендерных сем в религиозном дискурсе
Лексемы подвижница и сподвижница в рассматриваемых нами выборках появляются только в контекстах РКМ-1. Это может быть связано с тем, что именно в РКМ-1 при реали -зации представлений о подвижничестве святых в некоторых контекстах необходима актуализация гендерных сем, как в следующих примерах, описывающих жизнь христианских подвижниц:
Ныне все мы переживаем великую духовную радость , принимая в наших городах и весях благословенную святыню – честную десницу преподобномученицы великой княгини Елисаветы и частицу святых мощей ее верной сподвижницы инокини Варвары (Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия архипастырям, пастырям, монашенст-вующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с принесением в Россию святых мощей Преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.08.30); Одна французская подвижница 18-го или 19-го века говорила в своих записных книжках: «Господи , по своей должности я не имею возможности много бывать в церкви , но я среди людей , и в каждом из них вижу Твой образ и поклоняюсь ему ... » (Митрополит Антоний (Блум). Внутреннее молчание (1992)).
Список литературы Репрезентация концепта подвиг в религиозном и нерелигиозном дискурсах
- Берендеева М. С. Различия в структуре концептов ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и ПОДВИГ при их объективации в наивном и религиозном дискурсах//Русский литературный язык в контексте современности: Материалы II Всерос. науч.-метод. конф. с международным участием (Ульяновск, 19-21 октября 2011 года)/Под ред. В. Н. Артамонова. Ульяновск, 2012. С. 12-19.
- Бугаева И. В. Принять на себя подвиг (о церковной составляющей концепта)//Православный образовательный портал «Слово». URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37389.php (дата обращения 01.05.2017).
- Дорджиева Д. В. Лингвокультурный концепт «подвиг» в русском, калмыцком и английском героических эпосах: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 22 с.
- Коренева Ю. В. Подвиг в языке и тексте (жития преподобных старцев)//Вестн. Московского гос. областного ун-та. Серия: Русская филология. 2012. № 1. С. 18-23.
- Кузнецов С. А. Современный толковый словарь русского языка. М.: Ридерз Дайджест, 2004. 960 с.
- Перебейнос А. Н. Особенности семантических отношений между компонентами лексико-фразеологичекого поля концепта «Подвиг»//Вопр. искусствоведения, философии, культурологии, истории и лингвистики. Материалы I Междунар. науч.-практ. конф.: Сб. науч. тр. НОУ «Вектор науки». М.: Изд-во «Перо», 2015. С. 112-115.
- Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры: более 2 000 слов и словосочетаний. 2-е изд., испр. М.: Астрель: АСТ, 2008. 447 с.
- Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры: Опыт исследования. М.: Яз. рус. культуры, 1997. 824 с.
- Широкова (Берендеева) М. С. Взаимодействие наивной и церковной картин мира в пространстве концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ на материале его лексической репрезентации//Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 2: Филология. С. 10-20.